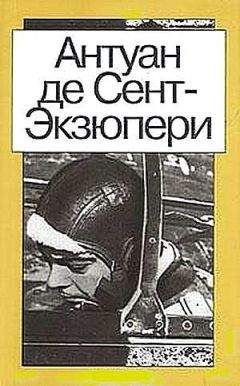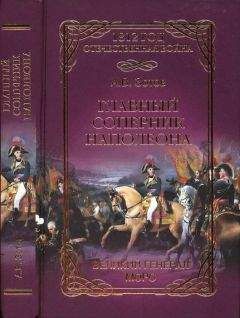Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего...
– Капитан!
– Да?
– Шесть истребителей, шесть, впереди – слева!
Это прозвучало как удар грома.
Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...
– Стрелок!
– Капитан?
– Слышали? Шесть истребителей, шесть, впереди – слева!
– Слышал, капитан!
– Дютертр, они нас заметили?
– Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот.
– Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко?
– ...несколько секунд.
– Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу! Крохотные. Рой ядовитых ос.
– Стрелок! Они идут наперерез. Сейчас увидите. Вот они!
– Я... я ничего не вижу. А! Вижу!
А я уже потерял их из виду.
– Гонятся за нами?
– Гонятся!
– Высоту набирают быстро?
– Не знаю... Кажется, нет... Нет!
– Ваше решение, капитан?
Это спросил Дютертр.
– А что я могу решить?
И мы замолкаем.
Решать тут нечего. Все зависит только от Бога. Если я развернусь, расстояние между нами уменьшится. Мы летим прямо на солнце, а на большой высоте нельзя набрать еще пятьсот метров, не потеряв скорости и не отстав от движущейся цели на несколько километров. Поэтому может случиться, что, прежде чем они выйдут на нашу высоту и разгонятся, мы успеем исчезнуть в слепящих лучах.
– Стрелок, все еще летят?
– Летят.
– Мы отрываемся?
– Гм... нет... да!
Все зависит от Бога и от солнца.
Предвидя возможный бой (хотя истребители не столько ведут бой, сколько совершают убийство), я напрягаю все мускулы, стараясь сдвинуть замерзшие педали. Я чувствую себя как-то странно, но истребители у меня еще перед глазами. И всей своей тяжестью я наваливаюсь на упрямые педали.
Я опять замечаю, что, одеваясь, волновался гораздо больше, чем сейчас, хотя происходящее и принуждает меня к нелепому ожиданию. Меня даже охватывает злоба. Благотворная злоба.
Но никакого опьянения самопожертвованием. Я готов кусаться.
– Стрелок, уходим от них?
– Уходим, господин капитан.
Отлично.
– Дютертр... Дютертр...
– Слушаю, господин капитан.
– Нет... ничего.
– А что было, господин капитан?
– Ничего... Мне показалось... нет... ничего...
Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор...
Странно, что я обливаюсь потом при 50° мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит: я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку...
Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить. Я забываюсь. Забыться...
Мну пальцами резиновую трубку. В нос бьет струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке... Значит... Ну конечно. Я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию...
Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать! Я вижу приборную доску... Я уже не вижу приборной доски... Я обливаюсь потом, и мне грустно.
Жизнь потихоньку вернулась ко мне.
– Дютертр!..
– Слушаю, господин капитан!
Мне хочется рассказать ему о случившемся.
– Я... думал... что...
Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб...
– Так что же было, господин капитан?
– Нет... ничего.
– Право, господин капитан, вы говорите загадками!
Я говорю загадками. Но зато я жив.
– ...мы их... оставили с носом!..
– О, господин капитан, до поры до времени!
До поры до времени: впереди – Аррас.
Итак, несколько минут я думал, что уже не вернусь, и все-таки не обнаружил в себе того жгучего страха, от которого, говорят, седеют волосы. И я вспоминаю Сагона. Вспоминаю о том, что рассказал нам Сагон, когда два месяца назад, через несколько дней после воздушного боя, в котором он был сбит во французской зоне, мы навестили его в госпитале. Что испытал Сагон, когда, окруженный истребителями, словно поставленный ими к стенке, он считал себя на краю гибели?
Как сейчас вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обожжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе.
– ...Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну совсем легкий! Откуда-то спереди. Я подумал, что это... вы же знаете, там соединительная трубка... Пламя было несильное...
Сагон морщится, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или несильное. Он колеблется:
– А все-таки... там был огонь... Тогда я велел им прыгать...
Потому что огонь за десять секунд превращает самолет в факел!
– Тут я открыл люк. И зря. Пламя потянуло в кабину... Мне стало немного не по себе.
На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе! Я не хочу грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности. Он сказал бы: «Нет, мне действительно стало немного не по себе...» И он явно старается быть точным.
К тому же я убежден, что поле действия сознания весьма невелико. Разом оно вмещает только что-то одно. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание не отзывалось на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, которое он искал, и техникой спасения экипажа. «Вы прыгнули?» Молчание. «Есть кто-нибудь на борту?» Молчание.
– Я решил, что остался один. Я решил, что можно прыгать... (Лицо и руки у него уже были обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Потом наклонился вперед: гляжу, штурмана нет...
Штурман, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины.
– Тогда я сдвинулся назад, посмотрел – стрелка нет...
Стрелок тоже был мертв.
– Я решил, что остался один...
Он соображал:
– Если бы я знал... я мог бы опять влезть в кабину... Горело не так уж сильно... Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. Да-да, я долго держался на крыле... Я не знал, что делать...
Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало ясно одно: он не испытывал никаких желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать... Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени.
– А потом я прыгнул, – сказал он, – прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго...
Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом, неизвестно чего, ждал на крыле. И во время свободного падения по вертикали на землю тоже ждал.
И это был Сагон, да, это был заурядный Сагон, еще более простой, чем обычно, Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте.
Вот уже два часа мы парим в атмосфере, где давление в несколько раз ниже нормального. Экипаж понемногу изматывается. Мы почти не разговариваем. Раза два я еще попытался осторожно нажать на педали. Но я не упорствовал. Каждый раз меня охватывало все то же чувство сладкого изнеможения.
Дютертр задолго предупреждает меня о виражах, необходимых ему для фотосъемки. Я кое-как выкручиваюсь, хотя штурвал почти совсем замерз. Я создаю крен и беру штурвал немного на себя, машина с грехом пополам входит в вираж, и Дютертр успевает заснять кадров двадцать.