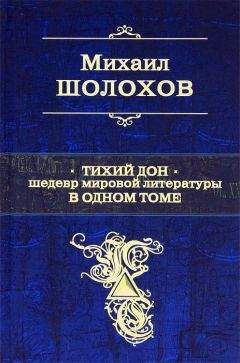Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.
— А вы чего ж отбились?
— Сом бредень просадил.
— Зашили?
— Кое-как, ячейки посцепили…
— Ну дойдем до колена и — домой. Забредай, Гришка, чего ж взноровился?
Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.
— Не трясись!
— И рада б, да духу не переведу.
— Давай вот что… Давай вылазить, будь она проклята, рыба эта!
Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол, Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.
— Через займище пойдем?
— Лесом ближе. Эй, вы, там, скоро?
— Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.
Аксинья, морщаясь, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли саженей сто, Аксинья заохала:
— Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись.
— Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?
— И то. Покуда до дому дотянешь — помереть можно.
Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.
— Лезь в середку. Тут — как на печке.
Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено.
— То-то благодать!
Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный, волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.
— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этаким цветком белым… — шепнул, наклоняясь, Григорий.
Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб стареющего месяца.
Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.
— Пусти!
— Помалкивай.
— Пусти, а то зашумлю!
— Погоди, Аксинья…
— Дядя Пантелей!..
— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.
Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.
— Ты чего шумишь? Ай заблудилась? — подходя, переспросил старик.
Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.
— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.
— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.
Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.
V
До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков — молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового Христониного коня и Степанового вороного 5. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареей, Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.
Христонина бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и не оседланными лошадьми.
Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян.
У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.
— Степан!
— А?
— …на! Давай служивскую заиграем?
— Жарко дюже. Ссохлось все.
— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!
— Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.
Степан откидывает голову, прокашлявшись, заводит низким звучным голосом:
Эх ты, зоренька-зарница,
Рано на небо взошла…
Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.
Молодая, вот она, бабенка
Поздно по воду пошла…
Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.
— Христоня, подмоги!
А мальчишка, он догадался,
Стал коня свово седлать…
Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.
Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:
Оседлал коня гнедого —
Стал бабенку догонять…
Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза — потное лицо в тени, — ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:
Ты позволь, позволь, бабенка,
Коня в речке напоить…
И снова колокольно-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в лощину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву — и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громыхают брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте.
Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает, сыплет мельчайшей подмывающей скороговоркой:
Не садися возле меня,
Не садися возле меня,
Люди скажут — любишь меня,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
А я роду не простого…
Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:
А я роду не простого…
Не простого —
Воровского —
Воровского,
Не простого,
Люблю сына князевского…
Федот Бодовсков свищет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит вприсядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.
VI
Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать.
С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.
Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.
Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:
— …Курган, стал быть, высокий, навроде этого. Я и говорю покойничку бате: «А что, атаман 6не забастует нас за то, что без всякого, стал быть, дозволенья зачнем курган потрошить?»
— Об чем он тут брешет? — спросил вернувшийся от лошадей Степан.
— Рассказываю, как мы с покойничком батей, царство небесное старику, клад искали.
— Где же вы его искали?
— Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь — Меркулов курган…
— Ну-ну… — Степан присел на корточки, положил на ладонь уголек. Плямкая губами, долго прикуривал, катал его по ладони.