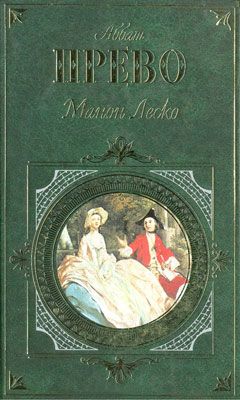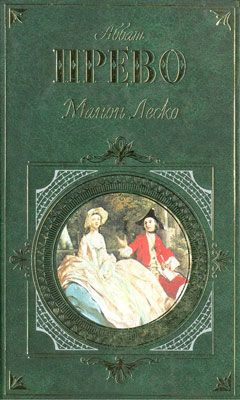Так как я все время твердил о скорейшем возвращении в Париж и всякий раз при этом даже вскакивал с места, отец мой понял, что в моем исступлении ничто не сможет меня остановить. Он отвел меня в одну из верхних комнат, где оставил двух слуг для присмотра за мною. Я более не владел собой. Я бы пожертвовал тысячью жизней, лишь бы только побывать на четверть часа в Париже. Я понял, что выдал себя и мне не позволят так просто выйти из своей комнаты. Я смерил глазами высоту окон над землей. Не видя никакой возможности убежать этой дорогой, я обратился к двум моим стражам. Я надавал им множество обещаний, сулил им целое состояние, если они не станут препятствовать моему побегу. Я убеждал, увещевал, угрожал; попытки мои были бесполезны. Тут я потерял всякую надежду. Я решил умереть и бросился на постель, намереваясь покинуть ее лишь вместе с жизнью. Я провел ночь и следующий день в том же положении. Я отверг пищу, которую принесли мне наутро.
Отец пришел навестить меня после полудня. По доброте своей он старался облегчить мои страдания самыми ласковыми утешениями. Он столь решительно приказал мне что-нибудь съесть, что из уважения к нему я повиновался. Прошло несколько дней, в течение которых я принимал пищу только в его присутствии, покоряясь его воле. Он не переставал приводить мне доводы, стараясь образумить меня и внушить презрение к неверной Манон. Правда, я более уже не уважал ее; как мог я уважать самое ветреное, самое коварное из всех созданий? Но ее образ, пленительные черты я лелеял по-прежнему в глубине моего сердца; я это ясно чувствовал. «Пусть я умру, — говорил я, — как можно не умереть после такого позора и таких страданий; но я претерплю тысячу смертей, а не забуду неблагодарной Манон».
Отец был поражен, видя меня в непрерывной тоске. Он знал мои правила чести и, не сомневаясь в том, что ее измена должна вызвать во мне презрение, вообразил, что постоянство мое происходит не столько от этой страсти, сколько от общего влечения моего к женщинам. Он до того проникся этой мыслью, что, движимый нежной привязанностью, однажды вошел ко мне с готовым предложением. «Кавалер, — сказал он, — до сей поры всегда желал я видеть тебя рыцарем Мальтийского ордена; убеждаюсь, однако, что склонности твои направлены в иную сторону; тебя влечет к красивым женщинам; я решил подыскать тебе подругу по вкусу. Скажи мне откровенно, что думаешь ты об этом?»
Я отвечал, что отныне не делаю различий между женщинами и после несчастья, случившегося со мною, всех их презираю одинаково. «Я отыщу тебе такую, — засмеялся отец, — которая будет походить на Манон и будет вернее, чем она». — «Ах! ежели у вас есть доброе чувство ко мне, — воскликнул я, — верните мне ее, только ее одну! Верьте, дорогой батюшка, она не изменила мне; она не способна на столь черную и жестокую низость. Всех нас обманывает вероломный Б***, вас, и ее, и меня. Если бы вы ее увидели хоть на миг, вы сами бы полюбили ее». — «Ребенок! — возразил мой отец. — Как можете вы быть ослепленным до такого предела после того, что я сообщил вам о ней? Ведь она сама предала вас вашему брату. Забудьте ее, забудьте самое ее имя и, ежели вы благоразумны, не искушайте моей к вам снисходительности».
Правота отца была для меня слишком очевидна. Только непроизвольный сердечный порыв побудил меня защищать изменницу. «Увы! — воскликнул я, помолчав с минуту. — Сомнения нет, я несчастная жертва самого низкого из всех предательств. Да, — продолжал я, проливая слезы досады, — вижу теперь, что я просто доверчивый ребенок. Им ничего не стоило меня обмануть. Но я знаю, как отомстить». Отец пожелал узнать мои намерения. «Я направлюсь в Париж, — сказал я, — подожгу дом Б*** и спалю его живьем вместе с коварной Манон». Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в моем заточении.
Так провел я целых полгода, но в первые месяцы во мне произошло мало перемен. Все мои чувства сводились к вечному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния, — в зависимости от того, в каком виде представал образ Манон моим мыслям. То рисовалась она мне самой пленительной из всех девиц на свете, и я томился жаждой ее видеть; то представлялась она мне низкой, вероломной любовницей, и я клялся отыскать ее лишь для того, чтобы покарать.
Меня снабдили книгами, и они немного способствовали успокоению моей души. Я перечитал всех любимых своих писателей, приобрел новые знания, вновь получил вкус к занятиям — вы увидите, сколько пользы принесло мне это впоследствии. Просвещенный любовью, я нашел смысл во множестве мест Горация и Вергилия, которые ранее оставались для меня темными. Я составил любовный комментарий к четвертой книге «Энеиды»[24]; предназначая его к напечатанию, льщу себя надеждой, что читатели будут им удовлетворены. «Увы, — говорил я, составляя его, — верной Дидоне нужно было сердце, подобное моему».
Однажды Тиберж навестил меня в темнице. Я был поражен горячим порывом, с которым он обнял меня. До той поры я смотрел на нашу взаимную привязанность как на простую товарищескую дружбу между молодыми людьми приблизительно одного возраста. Я нашел его столь изменившимся и возмужавшим за пять или шесть месяцев нашей разлуки, что облик его и манеры внушили мне уважение. Он заговорил со мною скорее как мудрый советчик, нежели как школьный приятель. Он сожалел о заблуждении, жертвой которого я пал; поздравлял с исцелением и, наконец, увещевал воспользоваться уроком этой юношеской ошибки, убедившись на опыте в тщете удовольствий.
Я смотрел на него с изумлением. Он заметил это.
«Дорогой мой кавалер, — сказал он, — все, что я вам говорю, несомненная истина, и я удостоверился в том после суровых испытаний. Я чувствовал в себе влечение к сластолюбию не меньшее, нежели вы; но небо даровало мне в то же время и склонность к добродетели. Я обратился к собственному разуму, дабы сравнить плоды, приносимые тем и другим, и не замедлил распознать их различия. Небо присоединило помощь свою к моим размышлениям. Во мне зародилось презрение к миру, ни с чем не сравнимое. Назвать ли вам, что удерживает меня здесь, — прибавил он, — и что препятствует мне бежать в пустыню? Единственно нежная дружба к вам. Мне ведомы превосходные качества сердца вашего и ума; нет такого славного поприща, к которому вы не были бы способны. Яд суетных удовольствий совратил вас с пути. Какая потеря для добродетели! Ваше бегство из Амьена причинило мне столько горести, что с той поры я не вкусил ни минуты покоя. Судите о том по моим поступкам». Он рассказал мне, что после того, как обнаружил мой обман и бегство с любовницей, он сел на лошадь, чтобы следовать за мною; но, так как я опередил его на четыре или пять часов, ему было невозможно догнать меня; тем не менее он прибыл в Сен-Дени полчаса спустя после моего отъезда; будучи уверен, что я остановлюсь в Париже, он провел в нем полтора месяца, тщетно разыскивая меня; он обошел все места, где льстил себя надеждою меня встретить, и наконец однажды узнал мою любовницу в Комедии; она сидела в театре в блестящем уборе, и он догадался, что она обязана своим богатством какому-нибудь новому любовнику; он проследил ее карету до самого дома, где выведал от прислуги, что ее содержат щедроты господина де Б***. «Я не остановился и на этом, — продолжал он, — я вернулся туда же на следующий день, дабы узнать от нее самой, что с вами произошло. Она убежала от меня, лишь только услышала ваше имя, и я вынужден был возвратиться в провинцию, не добившись других сведений. Там я узнал о вашем приключении и о крайнем унынии, в которое оно повергло вас; но я не хотел вас видеть, не уверившись в том, что найду вас в более спокойном состоянии».
«Значит, вы видели Манон? — воскликнул я со вздохом. — Увы! вы счастливее меня, обреченного не видеть ее никогда более». Он стал упрекать меня за этот вздох, все еще обличавший мою слабость к ней. Он с такой изысканной ловкостью польстил моему доброму нраву и моим хорошим наклонностям, что зародил во мне, начиная с первого же посещения, сильное желание отказаться, по его примеру, от всех мирских услад и принять пострижение.
Я так увлекся этой идеей, что, оставшись один, ни о чем другом более не помышлял. Я вспомнил речи господина епископа Амьенского, дававшего мне тот же совет, и благоприятные для меня его предсказания, ежели я последую по сему пути. Благочестивые чувства еще более укрепили меня в моем решении. «Я буду вести жизнь мудрую и христианскую, — говорил я, — посвящу себя науке и религии, что не позволит мне помышлять об опасных любовных утехах. Я буду презирать то, что обычно восхищает людей; и, раз я чувствую, что сердце мое будет стремиться лишь к тому, что представляется ему достойным, у меня будет столь же мало забот, сколь и желаний».
Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни[25]. В него входила уединенная хижина, роща и прозрачный ручей на краю сада; библиотека избранных книг; небольшое число достойных и здравомыслящих друзей; стол умеренный и простой. Я присоединил к этому переписку с другом, который, живя в Париже, будет сообщать мне городские новости, не столько для удовлетворения моего любопытства, сколько для того, чтобы развлекать меня суетными волнениями общества. «Разве не буду я счастлив? — прибавлял я. — Разве не осуществятся все мои желания?» Несомненно, такие планы вполне подходили моим склонностям. Однако, размышляя о столь мудром устроении моей будущей жизни, я почувствовал, что сердце мое жаждет еще чего-то, и, дабы уж ничего не оставалось желать в моем прелестнейшем уединении, надо было только удалиться туда вместе с Манон.