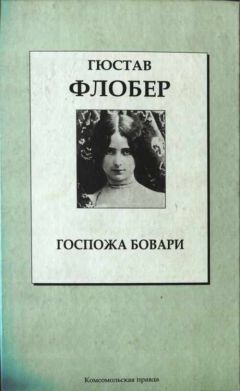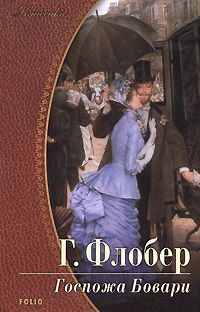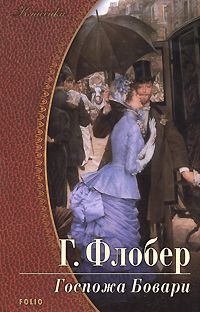Необходимо все-таки, чтобы Лере принял в деле участие.
— Послушайте! Кажется, до сих пор я был к вам достаточно снисходителен. — Он раскрыл одну из своих счетных книг. — Не угодно ли взглянуть? — и, переводя палец снизу вверх по странице, называл цифры: — Вот, видите ли… третьего августа двести франков… семнадцатого июня — сто пятьдесят… двадцать третьего марта — сорок шесть. В апреле… — Он остановился, словно боясь сказать лишнее. — Я не говорю уже о векселях, выданных мне вашим мужем, — один на семьсот франков, другой на триста! Что касается ваших мелких долгов и просрочек в уплате процентов, то им конца нет, тут такая путаница, что сам черт ногу сломит. Я больше ни во что не вмешиваюсь!
Она заплакала, назвала его даже «добрым господином Лере». А он все сваливал на «собаку Венсара». Сверх того, у него самого нет ни копейки, никто теперь не хочет платить, его поедом съели; нет, скромный торговец, как он, не может открывать кредит.
Эмма молчала; Лере, покусывая кисточку гусиного пера, вероятно, обеспокоился ее молчанием и наконец вымолвил:
— Разве что если на этих днях будет сделан какой-нибудь взнос… тогда, пожалуй…
— Впрочем, — сказала она, — как только я получу остальные деньги за Барневиль…
— Как? — И, узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лере изобразил немалое удивление. Потом сладким голосом прибавил: — Так вы хотите заключить условие?
— Какое вам угодно!
Он закрыл глаза, что-то обдумывая, написал несколько цифр и, заявив, что сделка ему очень тяжела, что дело совсем не шуточное, что он из-за нее разоряется, продиктовал четыре векселя, по двести пятьдесят франков каждый, на последовательные сроки, разделенные месячными промежутками.
— Только бы Венсар согласился! Впрочем, дело решено — я не люблю водить людей за нос, со мной дело чистое…
Потом показал ей небрежно несколько новинок, из которых, впрочем, ни одна, по его словам, не заслуживает внимания такой барыни.
— Подумать только — материя на платье, по семи су метр, и притом с ручательством, что не полиняет! Они и разинут рот, а им, разумеется, не говорят, в чем дело!..
Этим признанием в том, как он обманывает других, почтенный коммерсант хотел поставить Эмме на вид свою честность в торговых делах с нею.
Потом он вернул ее, чтобы показать ей три аршина гипюра, подцепленные им недавно «на одной распродаже».
— Ну, разве это не красиво? — говорил Лере. — Теперь много берут такого гипюра для накидок на кресла, это в моде. — И с проворством фокусника завернул гипюр в синюю бумагу и вручил его Эмме.
— Скажите же, по крайней мере, цену…
— Когда-нибудь в другой раз, — отвечал он, повертываясь к ней спиною.
В тот же вечер Эмма принудила мужа написать матери, чтобы та поскорее выслала им остальную часть наследства. Свекровь отвечала, что у нее больше ничего нет: ликвидация закончена, и на их долю, кроме Барневиля, осталось шестьсот ливров годового дохода, которые она и будет высылать им в точные сроки.
Тогда докторша разослала счета двум-трем пациентам мужа и вслед затем начала широко применять это средство, оказавшееся успешным. В постскриптуме она неукоснительно прибавляла: «Не говорите об этом моему мужу, вы знаете, как он горд… Прошу извинения… Готовая к услугам»… Было несколько протестов, но она их перехватила.
Чтобы добыть денег, она стала продавать старые перчатки, старые шляпы, старое железо и торговала с алчностью, — крестьянская кровь сказалась в страсти к барышам. Далее, во время поездок в город она закупала много безделушек в надежде, за неимением других покупателей, перепродать их Лере. Она набрала страусовых перьев, китайского фарфора, шкатулок; занимала для этой же цели деньги у Фелисите, у госпожи Лефрансуа, у хозяйки «Красного Креста» — всюду, где было можно. На деньги, полученные за Барневиль, она погасила два векселя, остальные же полторы тысячи франков утекли у нее сквозь пальцы. Она снова должна, и так без конца!
Иной раз, правда, она принималась за подсчеты и выкладки, но вскоре открывала такой чудовищный дефицит, что не верила своим глазам. Начинала расчет сызнова, запутывалась, бросала все и старалась об этом больше не думать.
Грустно стало в лекарском доме! То и дело выходили из него поставщики с выражением ярости на лице. На плите валялись носовые платки; маленькая Берта, к ужасу госпожи Гомэ, ходила в продранных чулках. Если Шарль осмеливался пикнуть, что не все в порядке, Эмма отвечала грубо, что это не ее вина.
Откуда у нее эта раздражительность? Он объяснял все ее давнишним нервным расстройством и упрекал себя в том, что принимает ее болезнь за дурной нрав, обвинял себя в эгоизме и испытывал желание пойти к ней и поцеловать ее.
«Но нет, — говорил он себе тотчас же, — я могу ее еще больше растревожить!» — И оставался на месте.
После обеда он одиноко прогуливался по саду, брал маленькую Берту на колени и, развернув медицинский журнал, пытался учить ее азбуке. Девочка, не привыкшая к занятиям, широко раскрывала печальные глаза и готова была расплакаться. Он ее утешал: наливал воды в лейку и проводил по песку каналы или наламывал веточек с кустов и втыкал их в клумбы, устраивая игрушечную рощицу, что едва ли портило сад, и без того весь заросший высокою травою, — они были должны Лестибудуа уже за столько рабочих дней! Потом малютка начинала зябнуть и звала маму.
— Позови няню, — говорил Шарль. — Ты ведь знаешь, моя крошка, что мама не любит, когда ее беспокоят.
Началась осень, и уже опадали листья, как два года тому назад, когда она была больна! Когда же все это кончится?.. И он бродил по саду, заложив руки за спину.
Барыня сидела у себя в спальне. Туда никто не смел входить. Она проводила целый день в каком-то оцепенении, неодетая, и время от времени жгла восточные курительные свечи, купленные в Руане, в лавочке алжирца. Чтобы не чувствовать ночью спящим подле нее этого человека, она с помощью гримас сослала его в верхний этаж дома, а сама до утра читала сумасбродные книги, с картинами оргий и кровавыми сценами. Часто ее охватывал ужас, она вскрикивала, прибегал Шарль.
— Уйди, уйди! — говорила она.
Или же порой, сжигаемая внутренним огнем, который она питала в себе прелюбодеянием, задыхаясь от страстного возбуждения, распахивала окно, вдыхала всею грудью холодный воздух, распускала по ветру тяжелые волосы и, глядя на звезды, мечтала о царственном любовнике. Думала и о нем, о Леоне. В такие минуты она отдала бы все на свете за одно из свиданий с ним, которые ее утоляли.
То были ее празднества. И она любила справлять их пышно. Когда расходы были не под силу Леону, она доплачивала щедрою рукой остальное; а случалось это почти каждый раз. Он пытался внушить ей, что им было бы так же хорошо и в другом, более скромном отеле, но у нее находились возражения.
Раз она вынула из своего мешочка полдюжины серебряных вызолоченных ложечек (свадебный подарок старика Руо), прося его немедленно снести их в ломбард; Леон повиновался, хотя это поручение ему было не по душе. Он боялся, что его узнают.
Поразмыслив, он нашел, что его любовница начинает вести себя странно и что, быть может, не совсем не правы те, кто хотят разлучить его с нею.
Незадолго его мать получила длинное анонимное письмо, в котором ее предупреждали, что он «губит себя с замужней женщиной». Бедная дама, живо нарисовав в своем воображении вечное пугало семейств, неведомую губительницу молодых жизней, сирену, фантастическое чудовище, обитающее в безднах разврата, изложила все в письме к принципалу сына, Дюбокажу, который взглянул на дело серьезно. Он продержал Леона целых три четверти часа, пытаясь раскрыть ему глаза, предостеречь его от опасности: ведь подобная интрига впоследствии повредит ему в устройстве его карьеры. Он умолял разорвать связь: если Леон не хочет принести этой жертвы ради собственной будущности, пусть сделает это хоть для него, Дюбокажа.
Леон уступил и поклялся не видеться больше с Эммой; теперь он упрекал себя в том, что не сдержал своего слова, видя, сколько эта женщина может еще навлечь на него неприятностей и упреков, не считая насмешек товарищей, которые дразнили его по утрам, греясь у печки. Сверх того, ему было обещано место старшего клерка; пора было остепениться. Он уже отказывался от флейты, от возвышенных чувств, от фантазий. Ведь нет обывателя, который бы в пылу молодости, хоть на один день, на одну минуту, не считал себя созданным для мятежных страстей и великих подвигов. Самый мелкий развратник мечтал когда-то о султаншах, и в душе каждого нотариуса похоронены обломки от кораблекрушения поэта.
Теперь он скучал всякий раз, как Эмма вдруг разрыдается на его груди; и его сердце, как бывает с людьми, способными воспринимать музыку только в умеренной дозе, погружалось в равнодушную дремоту среди вихря этой страсти, в которой он уже переставал различать оттенки.