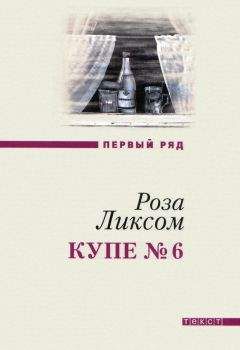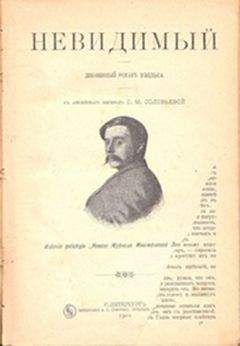Она следила за выражением его лица, пока он прокладывал себе путь через эти умозрительные дебри.
— Возьми хотя бы наши отношения, — оказал он, глядя на нее. — Мы довольно основательно подпортили свою репутацию, и никакие силы в мире не убедят меня в обратном. Ты убежала из дому; я бросил полезную работу преподавателя, поставил на карту все надежды на свою научную карьеру. И мы скрываемся, выдаем себя не за то, что мы есть; все это по меньшей мере сомнительно. И совершенно незачем утверждать, будто в этой истории есть какая-то Высшая правда или особая принципиальность. Нет их. Мы ни одной минуты не собирались горделиво скандализировать общество или следовать по стопам Шелли. Когда ты впервые убежала из дому, ты вовсе не думала, что скрытым импульсом для твоего побега являюсь я. Да я и не был им. Ты просто вылетела, как летучий муравей для брачного полета. Это была счастливая случайность, что мы столкнулись друг с другом без всякого предопределения. Мы просто столкнулись и теперь летим, отклоняясь от своих путей, слегка удивленные тем, что мы делаем, отказавшись от всех своих принципов и ужасно, совершенно неразумно гордясь собой. Из всего этого для нас возникает какая-то гармония… И это великолепно!
— Чудесно! — сказала Анна-Вероника.
— А если бы кто-нибудь рассказал тебе про нас и про то, что мы делаем, безотносительно к нам, — тебе бы такая пара понравилась?
— Я бы не удивилась, — отозвалась Анна-Вероника.
— Но если бы другая женщина спросила у тебя совета? Если бы она сказала: «Вот мой учитель, человек измотанный, женатый, уже не юноша, и между мной и им вспыхнула пылкая страсть. Мы намерены пренебречь всеми нашими узами, всеми обязанностями, всеми установленными требованиями общества и заново начать жизнь вместе». Что бы ты ответила?
— Если бы она нуждалась в совете, я бы ответила, что она и не способна на такие поступки. Я ответила бы, что, если у нее могло возникнуть хотя бы сомнение, этого достаточно, чтобы отказаться от таких отношений.
— А если это отбросить? Подумай хорошенько.
— Все равно, там было бы другое. Ведь это бы не мог быть ты.
— И не ты. Я думаю, здесь-то и кроется вся суть. — Он уставился на легкую рябь. — Законы правильны до тех пор, пока не возникнет особый случай. Законы существуют для неизменных предметов так же, как фишки и позиции в игре. Но на мужчин и женщин нельзя смотреть как на неизменные предметы; они все — эксперимент. Каждое человеческое существо — новое явление, и оно живет, чтобы создавать новое. Найди то, что ты хочешь больше всего на свете, убедись, что это так, и добивайся этого изо всех твоих сил. Если ты останешься жив, это хорошо и правильно; если умрешь — тоже хорошо и правильно. Твоя цель достигнута… Это и есть наш случай.
Он снова тронул зеркало воды, пробудил в ней воронки и заставил голубые контуры в ее глубинах корчиться и вздрагивать.
— Это и есть мой случай, — тихо сказала Анна-Вероника, не спуская с него задумчивых глаз.
Затем взглянула вверх на сосны, поднимавшиеся по склонам, на залитые солнцем, громоздящиеся друг на друга утесы и снова посмотрела на лицо Кейпса. Анна-Вероника глубоко вдохнула сладостный горный воздух. Ее взор был мягок и серьезен, а на решительно очерченных губах лежал легкий отблеск улыбки.
Потом они брели по извилистой тропинке над их гостиницей, охваченные любовью друг к другу. После путешествия ими овладела истома, день был теплый, воздух невыразимо мягкий. Цветы и трава, ягоды земляники, изредка пролетающая бабочка — все эти интимные мелочи стали казаться им более интересными, чем горы. Их руки, которыми они слегка размахивали, то и дело соприкасались. Между Анной-Вероникой и Кейпсом воцарилось глубокое молчание…
— Я сначала предполагал отправиться в Кандерштег, — наконец сказал он, — но здесь очень приятное место. В гостинице, кроме нас, нет ни души. Давай тут переночуем. Тогда можно гулять и болтать сколько душе угодно.
— Я согласна, — ответила Анна-Вероника.
— Ведь это же все-таки наш медовый месяц.
— И все, что у нас будет.
— Это место удивительно красивое.
— Любое место станет красивым… — вполголоса отозвалась Анна-Вероника.
Некоторое время они шли молча.
— Не знаю, — начала она опять, — отчего я люблю тебя и люблю так сильно? Теперь я понимаю, что это значит — быть несдержанной женщиной. Я и есть несдержанная женщина. И я не стыжусь того, что делаю. Мне хочется отдаться в твои руки. Знаешь, пусть бы мое тело сжалось в крошечный комочек, и ты бы стиснул его в своей руке и обхватил пальцами. Крепко стиснул. Я хочу, чтобы ты держал меня и владел мною вот так… ну всем во мне. Всем. Это такая чистая радость — отдать себя, отдать тебе. Я никогда не говорила таких вещей ни одному человеку на свете. Только грезила, что говорю, но избегала даже грез. Как будто на мои губы был наложен запрет. А теперь я снимаю печать — ради тебя. Одного только мне хотелось бы, чтобы я была в тысячу раз, в десять тысяч раз красивее.
Кейпс взял ее руку и поцеловал.
— И ты в тысячу раз красивее, — отозвался он, — чем все, что есть на свете… Ты это ты. В тебе — вся красота мира. И у красоты нет другого смысла и никогда не было. Только, только ты. Она была твоим вестником, обещала тебя…
Они лежали рядом в неглубокой впадине, заросшей травой и мохом, среди валунов и низкорослых кустарников, на высокой скале, и смотрели на вечереющее небо, выступавшее между краями исполинских пропастей, и на вершины деревьев, которые росли по склонам расширявшегося ущелья. Швейцарские домики вдалеке и открывавшиеся повороты дороги навели их на разговор о жизни, оставленной там, внизу, и этот разговор продолжался некоторое время.
Кейпс коснулся их планов на будущее и их работы.
— Нам придется иметь дело с безвольной, слабохарактерной средой. Эти люди даже не будут знать, как относиться к нам: показывать, что они шокированы или что они прощают нас. Они останутся в стороне, не решаясь ни забросать нас камнями, ни…
— Главное, не надо держаться так, будто мы ждем, что нас забросают камнями, — сказала Анна-Вероника.
— А мы и не будем.
— Уверена!
— Позднее, если мы начнем преуспевать, они будут подходить к нам бочком и изо всех сил делать вид, что ничего не замечают…
— Если мы на это согласимся, бедненький мой.
— Но все это — в случае успеха. Если же мы не добьемся его… — продолжал Кейпс, — тогда…
— Мы добьемся успеха, — заявила Анна-Вероника.
В этот день жизнь казалась Анне-Веронике отважным и победоносным предприятием. Она трепетала от ощущения, что Кейпс тут, возле нее, и пылала героической любовью к нему; ей чудилось, что если бы они, соединив руки, толкнули Альпы, то наверное сдвинули бы с места горы. Она лежала и грызла веточку карликового рододендрона.
— Как это не добьемся? — повторила она.
Затем Анне-Веронике захотелось расспросить его о плане предполагаемого путешествия. Развернув на коленях складную карту Швейцарии, выпущенную издательством «Зигфрид», и скрестив ноги, он сидел словно индийский кумир, а она лежала ничком возле него и следила за каждым движением его пальца.
— Вот, — говорил он, — Блау-Зее, и мы здесь отдохнем до завтра. Я думаю, хорошо здесь отдохнуть до завтра.
Последовала короткая пауза.
— Что ж, местечко очень приятное, — сказала Анна-Вероника, перекусывая веточку рододендрона, причем на ее губах снова появился отблеск улыбки… — А потом куда? — спросила она.
— А потом мы отправимся к Эйшинен-Зее. Это озеро лежит между пропастями, и есть маленькая гостиница, где мы можем остановиться и обедать за столиком, откуда открывается чудесный вид на озеро. Там мы будем бездельничать несколько дней и бродить среди скал и деревьев. Там есть лодки, чтобы кататься по озеру, и темные ущелья, и сосновые чащи. Через день-другой, скажем, мы, быть может, совершим одну-две небольших экскурсии, посмотрим, как у тебя голова — не кружится ли, и попробуем немножко полазить; а потом поднимемся к одной хижине по тропе, которая проходит вот тут, затем двинемся на Блюмлисский ледник, он тянется отсюда вот сюда.
При этом слове она словно очнулась от каких-то грез.
— Ледники? — повторила она.
— Под Вильдефрау[23] — ее безусловно так назвали в твою честь.
Он наклонился, поцеловал ее волосы, потом заставил себя вернуться к карте.
— Мы как-нибудь отправимся в путь очень рано, и спустимся к Кандерштегу и будем подниматься вот так, зигзагами, тут и тут, и таким образом пройдем мимо Даубен-Зее к крошечной гостинице — где, наверное, еще нет туристов, и мы сможем быть совершенно одни — она стоит над извивающейся тропой такой крутизны, что трудно себе представить: тысячи футов извилин; и ты сядешь и будешь со мною завтракать и смотреть по ту сторону Ронской долины, а там откроются за синими далями синие дали, и ты увидишь Маттерхорн и Монте-Розу и длинную вереницу залитых солнцем и покрытых снегом гор. А как только мы их увидим, нам сейчас же захочется приблизиться к ним — так всегда бывает, когда видишь прекрасное, — и мы спустимся, как мухи по стене, в Лейкербад, и пойдем на станцию Лейк, и поедем поездом по долине Роны и по боковой маленькой долине в Штальден; а там в прохладный предвечерний час мы поднимемся по дну ущелья, а под нами и над нами будут скалы и потоки, на полпути переночуем в гостинице и отправимся на другой день к Саас Фи, к Волшебному Саасу и Саасу Языческому. Возле Сааса опять будут снег и лед, и мы будем иногда бродить в окрестностях Сааса, среди утесов и деревьев, или заглядывать в часовни, а иногда уходить от людей и взбираться на ледники и снеговые вершины. И хоть один раз поднимемся по этой вот унылой долине к Маттмарку и все дальше, до Монте-Моро. Оттуда тебе по-настоящему откроется Монте-Роза. Это самая замечательная из вершин.