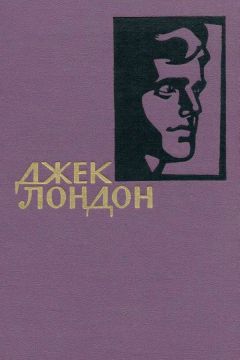Я хотел немедленно заняться де Гонкуром, но тут вмешался Боэмон, сказав, что мне следует отдохнуть.
— Нет, — ответил я, — я еще даже не согрелся как следует. — И повернулся к де Гонкуру. — Теперь вы у меня попляшете и попыхтите. Становитесь в позицию!
Де Гонкур не испытывал ни малейшего желания драться со мной. Нетрудно было заметить, что он только выполняет приказ.
Манера фехтовать у него была старомодная, как у всех пожилых людей, однако он неплохо владел шпагой и дрался хладнокровно, решительно и твердо. Но он не был блестящим бойцом, и его угнетало предчувствие поражения. Я мог бы покончить с ним дюжину раз, но не делал этого. Ведь я уже говорил, что мной владел дьявол.
Так оно и было. Я измучил моего противника. Я теснил его, заставил повернуться лицом к луне, так что ему трудно было меня разглядеть, — ведь я дрался в собственной тени. А пока я играл с ним, пока он пыхтел и задыхался, как я ему обещал, Паскини, опираясь головой на руку, смотрел на нас, выкашливая и выплевывая свою жизнь.
— Ну, де Гонкур, — объявил я наконец, — вы знаете, что вы в моих руках. Я могу заколоть вас десятком способов, — так будьте готовы, потому что я выбираю вот этот.
И, говоря это, я просто перешел от кварты к терции, а когда он, растерявшись, начал широко парировать, я вернулся в кварту, подождал, пока он откроется, и пронзил его насквозь на высоте сердца. И, увидя конец нашей схватки, Паскини перестал цепляться за жизнь, упал лицом в траву, вздрогнул и затих.
— Ваш хозяин лишится за эту ночь четырех своих слуг, — сообщил я Виллардуэну, как только мы начали бой.
И что за бой! Этот провинциал был нелеп. В какой только деревенской школе он обучался фехтованию! Каждое его движение было неуклюжим и смешным. «С ним я покончу быстро и просто», — решил я, а он наступал на меня, словно обезумев, и его рыжие волосы стояли дыбом от ярости.
Увы, его неуклюжесть и погубила меня. Пока я играл с ним и смеялся над ним, называя его грубым, деревенщиной, он от злости забыл даже те немногие приемы, которые знал. Взмахнув шпагой, словно это была сабля, он со свистом разрезал ею воздух и ударил меня по голове. Я остолбенел от изумления: что могло быть нелепее! Он совсем открылся, и я мог бы проткнуть его насквозь. Но я остолбенел от изумления и в следующую секунду почувствовал укол стального острия: этот неуклюжий провинциал пронзил меня насквозь, рванувшись вперед, словно бык, так что рукоятка его шпаги ударила меня в бок, и я отступил назад.
Падая, я увидел растерянные лица Ланфранка и Боэмона и довольную ухмылку наступавшего на меня Виллардуэна. Я падал, но так и не коснулся травы. Замигал ослепительный свет, раздался оглушительный грохот, наступил мрак, забрезжило смутное сияние, меня охватила грызущая, рвущая на части боль, и я услышал чей-то голос:
— Я ничего не нащупываю.
Я узнал этот голос. Это был голос начальника тюрьмы Азертона, и я вспомнил, что я — Даррел Стэндинг, который вернулся через века в пыточную рубашку Сен-Квентина. Я знал, что пальцы, касавшиеся моей шеи, принадлежат доктору Джексону. И тут послышался голос доктора:
— Вы не умеете нащупывать пульс на шее. Вот тут, прижмите свои пальцы рядом с моими. Чувствуете? А, я так и думал. Сердце бьется слабо, но ровно, как хронометр.
— Прошли только сутки, — заметил капитан Джеми, — а он никогда прежде не бывал в таком состоянии.
— Притворяется, и больше ничего, можете побиться об заклад, — вмешался Эл Хэтчинс, главный староста.
— Ну не знаю, — продолжал капитан Джеми. — Если пульс так слаб, что только врач может его нащупать.
— Подумаешь! Я ведь тоже прошел обучение в рубашке, — насмешливо сказал Эл Хэтчинс. — И сколько раз вы меня расшнуровывали, капитан, думая, что я отдаю Богу душу. А я-то еле удерживался, чтобы не рассмеяться вам прямо в лицо.
— Ну, а вы что скажете, доктор? — спросил начальник тюрьмы.
— Я же говорю вам: сердце работает великолепно, — последовал ответ, — хотя, конечно, слабовато, но этого можно было ожидать. Хэтчинс совершенно прав. Он притворяется.
Большим пальцем он оттянул мне веко, и я открыл один глаз и посмотрел на склонившиеся надо мной лица.
— Ну, что я говорил! — торжествующе воскликнул доктор Джексон.
Тогда я напряг всю свою волю и, хотя мне казалось что мое лицо вот-вот лопнет, все-таки улыбнулся.
К моим губам поднесли кружку с водой, и я жадно напился.
Следует помнить, что все это время я беспомощно лежал на спине и мои руки были прижаты к бокам внутри рубашки. Затем мне предложили еду — черствый тюремный хлеб, но я помотал головой и закрыл глаза, показывая, что мне надоело их присутствие.
Боль воскресения была невыносима. Я чувствовал, как оживает мое тело. Казалось, что шею и грудь колют тысячи булавок и иголок, а в моем мозгу не угасало яркое воспоминание, что Филиппа ждет меня в большом зале, и я хотел вернуться к половине дня и половине ночи, которые только что прожил в старой Франции.
И пока все мои тюремщики еще стояли рядом, я попробовал выключить ожившую часть моего тела из сознания. Я торопился уйти от них, но меня задержал голос начальника тюрьмы:
— Есть у тебя какие-нибудь жалобы?
Я боялся только одного — что они вынут меня из рубашки, и потому мой ответ вовсе не был отчаянной бравадой: я просто хотел оградить себя от такой возможности.
— Вы могли бы затянуть рубашку потуже, — прошептал я, — она такая просторная, что в ней неудобно лежать, я просто утопаю в ее складках. Хэтчинс дурак. Неуклюжий дурак. Он и представления не имеет о том, как шнуруются рубашки. Начальник, вам следовало бы сделать его старостой ткацкой мастерской. Он добьется куда большей непроизводительности, чем теперешний бездельник, который тоже дурак, но не такой неуклюжий. А теперь убирайтесь вон, если не придумали ничего нового. В этом случае, конечно, оставайтесь. Оставайтесь, милости просим, если в ваши тупые башки взбрело, что вы способны придумать для меня какие-нибудь свеженькие пытки.
— Он ненормальный, настоящий, подлинный ненормальный, — радостно сказал доктор Джексон, преисполняясь профессиональной гордостью.
— Стэндинг, ты и вправду чудо, — заметил начальник тюрьмы. — У тебя железная воля, но я ее сломаю, можешь не сомневаться.
— А у вас кроличье сердце, — отрезал я. — Да получи вы десятую долю того, что я получил в Сен-Квентине, рубашка давно бы выдавила ваше кроличье сердце через эти вот длинные уши.
Удар попал в цель, потому что у начальника тюрьмы действительно были странные уши. Я не сомневаюсь, что они заинтересовали бы Ломброзо [98].
— Что касается меня, — продолжал я, — то я смеюсь над вами и от души желаю проклятой ткацкой, чтобы вы сами стали в ней старостой. Ведь вы же пытали меня, как хотели, и все-таки я жив и смеюсь вам в лицо. Вот уж это рекордная непроизводительность труда! Вы даже не в силах убить меня. Что может быть непроизводительнее? Да вы не сумели бы убить даже загнанную в угол крысу, и притом с помощью динамита — настоящего динамита, а не того, который, как вы воображаете, я где-то спрятал.
— Ты хочешь еще что-нибудь сказать? — спросил он, когда я кончил мою язвительную речь.
И тут я вспомнил то, что сказал наглецу Фортини.
— Убирайся прочь, тюремный пес! — ответил я. — Иди визжать у других дверей.
Для такого человека, как Азертон, подобная насмешка из уст беспомощного заключенного была, конечно, непереносимой. Лицо его побелело от ярости, и дрожащим голосом он пригрозил мне:
— Запомни, Стэндинг, я с тобой еще посчитаюсь.
— Как бы не так, — ответил я. — Вы ведь можете только затянуть потуже эту невероятно просторную рубашку. А если это вам не под силу, так убирайтесь вон. И, пожалуйста, не возвращайтесь хотя бы неделю, а еще лучше все десять дней.
Какое наказание мог придумать начальник тюрьмы для заключенного, который уже подвергался самому страшному из них?
Кажется, Азертон все-таки нашел, чем мне пригрозить, но едва он открыл рот, как я, воспользовавшись тем, что мой голос немного окреп, начал петь: «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку». И я пел, пока дверь моей камеры не захлопнулась, пока не заскрипели замки и пока засовы, завизжав, не вошли в свои гнезда.
Теперь, когда я узнал секрет, воспользоваться им было уже нетрудно. И я понимал: чем чаще это проделывать, тем все будет проще. Достаточно было один раз нащупать линию наименьшего сопротивления, и при каждой последующей попытке это сопротивление будет ослабевать. И действительно, со временем, как вы увидите, мои переселения из тюрьмы Сен-Квентин в другую жизнь стали совершаться почти автоматически.
Едва только начальник тюрьмы Азертон и его подручные ушли, как я через несколько минут уже заставил свое воскресшее тело вновь погрузиться в «малую смерть». Да, это была смерть, но временная, вроде того приостановления жизни, которое возникает под действием хлороформа.