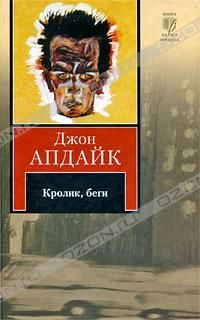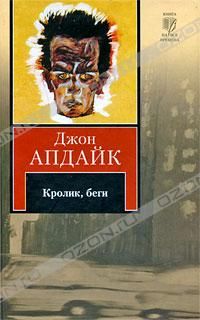— Давай рассуждать здраво, — говорит Кролик. — Война во Вьетнаме — это неправильно, так?
— Неправильно? Как это может быть неправильно, человече, когда таков ход событий? И эти несчастные Умалишенные Штаты просто-напросто верны себе, верно? Нельзя же перестать быть самим собой, разве только другие заставят, верно? А других такого масштаба в обозримом пространстве и не видать. Как-то утром просыпается Дядя Сэм, смотрит на свой живот и видит, что превратился в какого-то таракана, — что же делать? Оставаться собой-тараканом — только и всего. Пока кто-нибудь не раздавит. Подходящего башмака на данный момент нету, верно? Ну так и делай свои тараканьи дела. Я не поклонник белых ли-бе-ралов вроде сенаторов южанина Фулдалла или янки Маккарти, от которого в дорогих колледжах еще недавно млели все студенты-педики, и не считаю, что Вьетнам — это ошибка, и мы в два счета все исправим, дайте только выбросить из правительственных кресел этих пещерных людей; это не ошибка, нет, и каждый президент сразу влюбляется в эту идею, это же либе-ра-лизм в действии, сладкая дырка, ягодка. Свободолюбы-либералы так долго вылизывали задницу мамаши-свободы, что подзабыли, как она выглядит спереди. Что такое либе-ра-лизм? Как дать радость всему миру, верно? Берешь старый испытанный принцип «человек человеку волк», посыпаешь сахаром погуще, чтоб везде сладко было, и готово, верно? Ну, а что может быть милее Вьетнама? Мы за то, чтобы этот берег был для всех открыт. Человече, зачем мы вообще нужны, если не затем, чтобы все для всех было открыто? Как сможет процветать капитал, если мы не будем держать открытыми несколько таких дырок? Война во Вьетнаме — это акт любви, верно? По сравнению с Вьетнамом удар по Японии выглядит омерзительно. Мы были тогда просто мерзкие насильники, а сейчас ведем себя цивилизованно. — Потолок заходил ходуном: Ушлый чувствует, как на него нисходит дар камлания, он словно шаман. — Мы — то, что надо. Два-три старых дурака вроде покойного Хо Ши Мина, возможно, не знали этого, но мы то, чего жаждет мир. Биг-бит, героин, черные члены, широкозадые машины и рекламные щиты — все это мы. Если Иисус сойдет на землю, Он сойдет здесь. Все остальные страны — просто дерьмо, верно? А у нас дерьмо бабуинов, верно? Пусть воцарится Царство Небесное, и мы погрузим мир в жаркое, чисто американское, зеленовато-голубоватое дерьмо бабуинов, верно?
— Верно, — говорит Кролик.
Получив такое поощрение, Ушлый прозревает истину.
— Во Вьетнаме, — говорит он, — во Вьетнаме наша божественная сущность — вылезает гнойниками. Кто не любит Вьетнам, тот не любит Америку.
— Верно, — говорит Кролик. — Верно.
Двое других — бледные веснушчатые лица в обрамлении густых волос — явно напуганы этим их взаимным согласием.
— Прекратите, — просит Джилл. — Все, что вы говорите, вызывает боль.
Ушлый понимает. С девочки содрали кожу, и бедняга, ничем не защищенная, подставлена звездам. Днем он заставил ее проглотить немного мескалина. Сперва мескалин, а там и за героином дело не станет. А уж если нюхнет, то и на иглу сядет. Она в его власти.
— Давайте смотреть телевизор, — просит Нельсон.
— А как тебе удалось провести там год и не пострадать? — спрашивает Кролик Ушлого.
Эти белые лица. Эти дыры, пробитые в его безупречной ярости. Бог вытекает из этих белых дыр, и он не в силах остановить утечку. Чувство бессилия добирается до его глаз. Гнусные подлецы, они нарочно внушали ему, ребенку, что Бог — белый.
— А я пострадал, — говорит Ушлый.
ОТКРОВЕНИЯ УШЛОГО
(Записаны уверенным, круглым почерком Джилл, воспитанницы частной школы, зеленым фломастером как-то вечером, в шутку, на листке из блокнота Нельсона.)
Власть — чушь.
Любовь — чушь.
Здравый смысл — чушь.
Хаос — подлинный лик Бога.
Ничто не интересно, кроме вечного одного и того же.
Спасение возможно только через Меня.
В тот же вечер ею были сделаны зарисовки цветными мелками, которые Нельсон нашел для нее, в сугубо любительском линейном стиле, на том уровне, какого она достигла в выпускном классе, однако портретное сходство не вызывало сомнений. Ушлый, конечно, был изображен в виде знака «пики». Нельсону, с темными вихрами и утрированными прядями по бокам, достались «крести» с тонкой, как стебелек, шеей. Сама она — светлые волосы того же розового тона, что и лицо, и личико сердечком — «черви». А Кролик — «бубны». И в центре ромба — крошечный розовый носик. Сонные голубые глазки под встревоженно приподнятыми бровями. Почти невидимый рот, слегка приоткрытый, словно хочет что-то поймать на лету. А вокруг всего этого — завихрения, сделанные зеленым карандашом, любезно нарисованная стрелка-указатель и в кружочке: «набросок».
Как-то к вечеру, когда Нельсон вернулся после игры в футбол, а Гарри — с работы, они все втискиваются в «порше» Джилл и отправляются за город. Кролик вынужден сесть впереди, а Нельсону и Ушлому ничего не остается, как разместиться позади, где обычно лежит багаж. Ушлый, щурясь, быстро пробегает расстояние от двери к краю тротуара и, усевшись в машину, говорит:
— Бог ты мой, сколько же времени я не был на воздухе, даже дышать больно.
Джилл ведет машину целеустремленно, быстро, с уверенностью молодости; Кролик то и дело вжимает ногу в пол, но тормозов там нет. В профиль видно, как улыбается Джилл. Ее маленькая ножка в балетной туфельке наполовину приглушает подачу бензина на поворотах, увеличивает скорость ровно настолько, чтобы проскочить мимо большого грузовика — свирепого, изрыгающего дым дома на колесах — и не дать другому грузовику, мчащемуся навстречу, отправить их в небытие на прямом отрезке шоссе, проложенном между долинами красной земли и полями со светлой щетиной срезанной кукурузы. Какой красивый край! Осень убрала густую пенсильванскую зелень, очистила небо от летней молочной пелены, расцветила холмы янтарными и ярко-оранжевыми красками, которые через месяц станут цвета стручков акаций и будут похрустывать под ногами в сезон охоты. Дым от костров плывет над долинами, словно туман над рекой. Джилл останавливает машину возле белого забора и яблони. Они вылезают, и в нос им ударяет запах перезрелых яблок-паданцев. У их ног яблоки гниют в высокой сырой траве, что растет вдоль канавы с ручейком на дне, трава здесь все еще ярко-зеленая; а за забором луг выщипан до коричневой основы скотом, лишь в некоторых местах высятся репейники в человеческий рост, разжиревшие на коровьем навозе. Нельсон подбирает яблоко и откусывает с той стороны, где нет червоточины.
— Детка, не бери в рот всякую пакость! — предупреждает Ушлый. Неужели он никогда раньше не видел, чтобы люди ели фрукты прямо с дерева?
Джилл приподнимает платье и, перепрыгнув через канаву, приникает к теплым побеленным доскам забора — в щель между ними она видит вдали, в темной тени деревьев ферму из песчаника, которая блестит, как кубик сахара в чае, и большое высохшее колесо от старой фермерской фуры, которое никогда уже не завертится, а сейчас стоит прислоненное к ржавой колонке, по всей вероятности, насосу. Глаза Джилл становятся невидящими, совсем зелеными. Она вспоминает ржавые крюйсовы, дожидающиеся швартовых заезжих судов в доках Род-Айленда и на пирсах пролива Саунд, все эти заржавевшие от морской воды, бесхозные, выбеленные солью, обросшие ракушками нехитрые постройки, летнее солнце на сером, как чайки, дереве, доки, сараи, постанывание металла, качаемого водой, все, все, такое отличное от перезрелости здешних, далеких от моря, краев, и говорит:
— Поехали.
И они снова погружаются в маленькую машину, и снова несутся мимо грузовиков, бензоколонок, «немецких» ресторанов с неоновыми гексафусами, и снова ветер и скорость машины уничтожают все запахи, и звуки, и мысли о возможности существования другого мира. Просторы к югу от Бруэра, испещренные домами из песчаника, фермами амишей, словно напечатанными на подстриженных, как на обложках журналов, полях, переходят к северу от города в уродливые горы и темные долины, где в свое время процветала примитивная железнорудная промышленность, а люди строили высокие узкие дома из кирпича, с островерхими крышами и мансардами, отчего возникало впечатление, что на лужайках за утыканными остриями стенами сидят нахохлившиеся стервятники. Красный цвет глиняных горшков, господствующий в Бруэре, здесь, в десяти милях к северу, становится более жестким, темно-красным, как засохшая кровь. Хотя это еще не район угольного бассейна, деревья здесь кажутся потемневшими от угольной пыли. Кролик вспоминает серию статей, напечатанных в «Вэте», о чудовищных убийствах, о всех, изрубленных в куски, скальпированных, удушенных в этих сельских долинах, с их деревенскими узкими главными улицами, где стоят церкви цвета высохшей крови, и банки, и дома собраний ложи «Чудаков»[55], — улицами, которые оканчиваются, словно свернутая шея, резким поворотом над заброшенными железнодорожными путями и выходят в лишенное солнца ущелье, по которому течет речка цвета старого серебра, перепоясанная тут и там мокрыми мостами, издающими грохот, когда проезжаешь по ним.