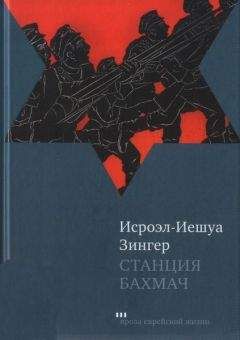— Червонец туда, червонец сюда, надо жить и людям помогать, — говорил он, быстро распаковывал, быстро считал и быстро ехал дальше.
Прошло время, он купил хорошую, новую машину и завел склад, как когда-то в Берлине. Он выискивал, где распродают что-нибудь по дешевке после пожара или банкротства, скупал фабричный брак. Он легко сходился с людьми, хлопал поставщиков по плечу, угощал сигарами и всегда знал, что происходит на мили вокруг. Он никогда не отказывал дать товар в долг. Он пообещал жене, что она снова будет стоять у него за кассой, и сдержал слово. Когда-то, в Германии, едва успев заработать несколько сотен марок, он начал вывозить из Мелеца родственников, и своих, и жены. Теперь он вывозил их, из Германии в Америку, давал им товар и отправлял собирать долги по кредитам. И вот он уже перебрался в западную часть города, где приобрел роскошное, просторное жилье, не хуже, чем на Ландсбергер-аллее.
Снова его дом был открыт для всех: для родственников и друзей, для знакомых и незнакомых, для каждого, кто в чем-нибудь нуждался. Снова гости сидели во всех комнатах на стульях и диванах, на столе и даже на полу. На кухне беспрерывно кипятили чай и фаршировали рыбу, варили варенье, пекли маковые коржи и рогалики, как в Мелеце, готовили бульон с клецками. Из граммофона звучали канторские напевы и веселые опереточные песенки. Гости приходили и уходили, недавно прибывшие заглядывали на день и оставались на неделю, спали на столах и скамейках. Снова Соломон называл свой дом «Отель де Клоп», но не с досады, а в шутку, и, как прежде, щедро помогал людям: червонец туда, червонец сюда, надо жить и людям помогать.
К нему стали обращаться за помощью не только бывшие жители берлинского еврейского квартала, но и выходцы из Западного Берлина, гордецы, которые на него когда-то и смотреть не хотели. Первым пришел Людвиг Кадиш, чтобы взять в кредит товара для розничной торговли, за ним потянулись другие. Соломон Бурак никому не отказывал ни в кредитах, ни в беспроцентных ссудах, подписывал векселя, помогал добывать бумаги, чтобы вывезти родных из Германии. Благодаря своей щедрой руке он одновременно с мясником Райхером оказался в правлении синагоги «Шаарей-Цедек», а затем поднялся и до президента. По субботам он с гордостью вынимал свиток из ковчега. В то время как кантор Антон Карали читал Тору, он водил по строчкам серебряной указкой. Он с достоинством выслушивал от прихожан пожелания доброй субботы, здороваясь со всеми за руку.
Соломон Бурак знал, что сэкономил бы кучу времени и денег, если бы ходил в другую синагогу, но считал, что оно того стоило. Приятно было быть президентом в общине немецких гордецов, среди которых были даже оперный певец Карали и раввин Шпайер.
Соломон оказался единственным, кто протянул руку помощи мистеру Пицелесу. Когда шамес пришел к нему со своей бедой, он даже не позволил ему говорить по-немецки: зачем язык ломать?
— Мистер Пицелес, говорите, будто вы в синагоге где-нибудь во Львове, — сказал он, поднося шамесу стаканчик пасхальной сливовицы, которую пил весь год. — Так я вас лучше пойму.
Мистер Пицелес с благодарностью смотрит на радушного хозяина и продолжает говорить по-немецки: за последнее время он привык к этому языку. Он волнуется за свою должность, немало желающих ее занять. Особенно его беспокоит доктор Липман, знаменитый сват.
Доктор Липман по-прежнему носит волосы до плеч, бархатное пальто и не слишком свежую, но всегда выглаженную белую рубашку, как в праздник. А в праздник надевает зеленый цилиндр на радость мальчишкам на улице. Но в чужой стране он ничего не может заработать своей профессией и постоянно заводит в синагоге речь о том, что галицийскому отдали хорошее место, а он, доктор Липман, должен помирать с голоду.
— Где это видано? — твердит он возмущенно. — Стыд и позор!
Он уже ведет себя так, будто он важная персона в общине, вмешивается в дела мистера Пицелеса и даже успел заказать визитки, на которых к степени доктора добавлено слово «reverend»[40]. Он тенью ходит за Соломоном Бураком, отряхивает ему пиджак, помогает надевать пальто и льстит без зазрения совести:
— Вы наш отец, уважаемый господин президент. Сначала Господь Бог, а потом вы, господин доктор…
Соломон Бурак смеется:
— Но я же не доктор, герр Липман.
— Ну как же, вы доктор, вы благородный человек, — не соглашается Липман. — Вы ангел во плоти…
Вот мистер Пицелес и боится, что Липман импозантной внешностью и лестью рано или поздно добьется своего, перетянет всех на свою сторону и получит место шамеса. Соломон Бурак хлопает его по плечу:
— Да плюньте вы на этих немчиков, мистер Пицелес. Я вас в обиду не дам, слово даю. Слово Соломона Бурака, понятно?
34
Нью-йоркский порт раскален жарким летним солнцем. Остро пахнет рыбой, смолой и гнилыми овощами.
Шпили небоскребов пронзают расплавленное серебро неба. Блестят потные тела раздетых до пояса чернокожих портовых рабочих, мускулы перекатываются на обнаженных спинах. Мягкий от жары асфальт дрожит под колесами тяжелых грузовиков, воняющих бензином, выплевывающих облака дыма. Издали доносится шум пролетающих поездов, слышно, как под ними подрагивают мосты. Грузчики, пассажиры, матросы, таможенники, полисмены, таксисты спешат, толкаются, потеют, кричат, швыряют узлы и чемоданы. Неожиданно с грязного берега прилетает легкий ветерок, проносится сквозь толпу, бросает мусор и пыль людям в лицо и так же неожиданно затихает. Духота окутывает людей, как мокрая простыня. После десяти дней морской прохлады Карновские задыхаются в липком, влажном воздухе шумного нью-йоркского порта, гринкарты мокнут в потных пальцах.
Едва ступив на раскаленную нью-йоркскую землю, Довид Карновский, старший в семье, омыл руки в каменном фонтане и благословил страну, в которую привел его Господь.
Доктор Георг Карновский снял шляпу, осмотрел сверкающими черными глазами новый город от горящих на солнце башен до размягченного асфальта и несколько раз ударил в землю каблуком, будто пробуя ее на прочность. И вдруг, неожиданно для себя, взял Терезу под руку и прошелся с ней вперед, потом назад, как на прогулке. Они давно не гуляли вместе. Никто не обратил внимания, что мужчина с обнаженной черноволосой головой ведет под руку белокурую, голубоглазую женщину. Здесь не надо было бояться уличных банд, когда идешь с собственной женой.
— Тереза, мы в Америке! — указал Георг на не слишком чистую мостовую. — Ты что, не рада?
Он обнял ее и расцеловал.
— Рада, Георг. — Тереза смутилась, что он целует ее на людях.
Карновскому хотелось, чтобы сын тоже радовался вместе с ними.
— Ну что, вот и приехали! — Он приподнял голову Егора за подбородок.
Егор состроил кислую мину, ему не понравилось, что отец так разошелся.
— Уфф, ну и жара! — проворчал он, вытирая пот со лба.
Ему никогда не нравилось, если отец так себя вел. Родители всегда кажутся детям чуть ли не стариками, а что может выглядеть глупее, чем расшалившийся старик? И то, что отец обращается с матерью, как влюбленный мальчишка, хватает ее за руку и целует, было отвратительно. Егор даже дома не мог на это смотреть, а тем более посреди улицы. И новая страна ему сразу не понравилась. Он не понимал, с чего отец так счастлив.
Издали, с парохода, Америка ему понравилась. Сверкающие небоскребы рвались в небо, как сказочные башни в волшебной стране, белые чайки парили над морем, горел на солнце факел в вытянутой руке статуи Свободы. На берегу все оказалось иначе. Здесь было невыносимо жарко и душно, будто по лицу хлещут мокрой тряпкой. На асфальте валялась кожура от бананов и сигарные окурки, обрывки газет цеплялись за ноги. В Германии такое было невозможно. Но самое ужасное — это люди. Полуголые грузчики, черные и белые, кричали, переругивались и сплевывали на землю тягучую табачную слюну, от вида которой тошнота подступала к горлу. Водители небрежно кидали вещи в грузовики, отталкивая каждого, кто оказывался на пути, причем без всякого почтения даже к прилично одетым людям. Зеленая форма служащих выглядела далеко не так элегантно, как немецкие мундиры. Когда инспектор в зеленой куртке, которую он, кстати, расстегнул из-за жары, что совершенно недопустимо для человека в форме, стал задавать Егору вопросы о возрасте, стране, фамилии и вероисповедании, Егор в пику отцу назвал религию матери. На слабом английском, который он учил в гимназии, а потом дома, по книгам, он попытался объяснить, что он, собственно, Гольбек, ариец и протестант, каковым он себя считал. Но черноволосый, кареглазый инспектор даже слушать не захотел и ответил на ломаном немецком, а на самом деле на идише, что по документам он Карновский, иудейского вероисповедания, хлопнул печатью и велел Егору не задерживаться.
— Next! — крикнул он. — Next![41]