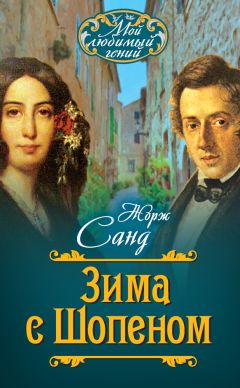Господин Костежу выслушал меня очень внимательно и, убедившись в искренности моих доводов, согласился с ними. Тут он вновь стал с негодованием говорить о Луизе, а когда хорошенько излился, то внял моим просьбам. Я чуть ли не на коленях молила его, чтобы он пообещал мне лечить и душу и тело, ибо видела, что он болен. Странное состояние, в котором я только что его застала, вовсе не было обычным для него, и тем более не было оно обычным состоянием здорового человека. Я уговаривала его есть и спать настолько регулярно, насколько это совместимо с постоянной спешкой и неотложностью занятий его профессии. Крепко сжав мне руки, он поклялся, что отбросит мысль о самоубийстве, как недостойную хорошего сына и разумного человека. И тогда я отвела его к матери; он смягчился, а значит, уже наполовину покорился своей судьбе.
Бедный человек! Судьба его была не очень счастливой. Луиза горько плакала, выслушивая упреки Эмильена. Она хотела бы написать Костежу о своей душевной борьбе, о сожалениях и признательности, но ведь Луиза почти не знала грамоты. Она хотела сказать ему об этом, но не посмела повернуть назад, не смогла победить свои предрассудки. Она поручила брату передать ее слова Костежу; тот, впрочем, и не рассчитывал на ее возвращение. Он подавил горе, скрыл негодование, и на сельском празднике, устроенном в монастырю по случаю нашего бракосочетания, был очаровательно весел и доброжелателен ко всем, кто там был.
Он исцелился либо казался исцеленным; между тем Луизе вскоре прискучили нищета, деспотизм и, быть может, ничтожество тех, у кого она попросила убежища.
И вот она упала к ногам госпожи Костежу и через несколько недель вышла замуж за нашего друга.
Они жили в видимом согласии, и у них не было серьезных поводов упрекать друг друга. Но сердца их соединились во взаимном понимании лишь очень не скоро. Каждый исповедовал свою религию: она верила священнику и королю, он Республике и Жан-Жаку Руссо. Костежу всегда был по уши влюблен в нее — грациозная как кошечка, она была так прелестна! Но он не принимал ее всерьез и, случалось, бывал сух в обращении, а в словах его проскальзывала горечь, обнаруживающая пустоту в том уголке души, где, казалось бы, должны царить истинная нежность и счастье. Смерть матери усугубила его нравственные терзания. С той поры он с усердием принялся сколачивать себе состояние, чтобы не отказывать жене в ее расточительных прихотях, и теперь он один из самых богатых людей в наших местах. Луиза умерла еще молодой, оставив мужу двух прелестных дочерей, одна из которых вышла замуж за своего двоюродного брата, Пьера де Франквиля, моего старшего сына.
Что же до нас, то мы достигли благополучия, которое позволило нам вырастить и воспитать пятерых детей. Все они уже обзавелись семьями, и когда нам выпадает счастье собраться вместе, со всеми их женами и детьми, то за стол садятся двадцать пять человек. Костежу горько оплакивал свою Луизу, но он обожает дочерей, существует ради них, и на склоне лет жизнь его стала поспокойнее. А между тем он ни на йоту не отступился от своих политических взглядов. В этом он остался таким же молодым, как и мой муж. Они не были обмануты июльской революцией. Не удовлетворила их и февральская.
Я же, которая давным-давно и думать забыла о политике — на нее у меня не остается времени, — я им никогда не противоречила, и если бы даже была уверена в их неправоте, не посмела бы сказать об этом, так восхищали меня эти характеры, эти люди, сформированные былыми временами, — один неистовый и восторженный, другой уравновешенный и неколебимый, ничуть не постаревшие и всегда казавшиеся мне сердечнее и живее, чем нынешние.
В прошлом году потеряла я друга своей юности, спутника жизни, душу самую чистую и самую справедливую, какую только знала. Я все время просила небеса не дать мне пережить его, но вот все еще живу, потому что вижу, как я нужна моим дорогим детям и внукам. Мне семьдесят пять лет, и уже недолго ждать той минуты, когда я соединюсь с моим любимым.
— Ты не сомневайся, — сказал он мне, умирая, — мы не можем расстаться надолго, мы слишком любили друг друга здесь, чтобы порознь начать новую жизнь там.
Госпожа маркиза де Франквиль умерла в 1864 году, когда она подорвала свои силы, ухаживая во время эпидемии за больными в своей деревне. До той поры она ничем не хворала, всегда была на ногах, ласковая и заботливая, горячо любимая семьей, друзьями и «прихожанами», как еще говорят старики крестьяне в средней полосе. Благодаря тому что и она сама, и муж ее, и дети разумно вели хозяйство, она составила довольно изрядное состояние, которым они пользовались самым достойным образом; маркиза любила говорить, что начала наживать его с одной овечки.
Я узнал, что своей мудростью и добротой она победила предубеждения тех из мужниной родни, кто остался в живых. Она помогала тем, кто впал в нищету, и так бережно относилась к убеждениям других, что все почувствовали к ней искреннее уважение, а иные прониклись глубокой почтительностью. Госпожа де Монтифо не пожелала с ней встретиться, но в конце концов все же сказала:
— Говорят, что эта Нанон такая достойная особа и так хорошо держится, будто она и в самом деле знатного рода. Добро она делает весьма деликатно; может быть, делала его и мне без моего ведома, потому что я получила вспомоществование, происхождение которого так и не узнала. Впрочем, я и не пыталась узнать. Когда вернутся Бурбоны, я все это выясню и уплачу долг. Не больно-то мне нужно быть благодарной этой самой Нанон, а уж тем более ее якобинцу-мужу.
Не все преследуемые в те времена аристократы были столь неукротимы, и если после возвращения Бурбонов многие из них проявили мстительность, некоторые все же оказались людьми признательными и беспристрастными. В большой монастырской приемной по большим праздникам собирались посетители и друзья из самых различных слоев общества, начиная с аристократической родни дочерей господина Костежу, по матери Франквиль, и до правнуков Жана Лепика — двоюродного деда Нанон. Мне рассказали о Пьере и Жаке Лепик, двоюродных братьях маркизы, под одной крышей с которыми прошло ее детство. Старший, которого она научила грамоте, стал офицером; но когда он приехал в отпуск, она вынуждена была во время свадьбы удалить его от себя.
Ему втемяшилось в голову заменить Эмильена подле нее, потому что, по его утверждению, он имел тот же чин, что и соперник, да еще и на одну руку больше. Он смирился и осел на жительство в другом месте. Что же касается братишки Пьера, тот остался другом дома, и один из его сыновей, который не бросил крестьянствовать, несмотря на очень приличное образование, женился на одной из барышень Франквиль.
Однажды мне представился случай, увидеть маркизу де Франквиль в Бурже, где у нее были дела. Меня поразила величавость ее лица, глядевшего из-под крестьянского чепца, с которым она так и не пожелала расстаться и который приводил на память средневековых королев, чьи головные уборы, описанные в сказаниях, до сих пор сохраняют наши поселянки. Видел я и маркиза: седина уже тронула его волосы, пустой рукав был прикреплен к пуговице куртки. Он тоже был в деревенской одежде. Его простые манеры, благородная и скромная речь, удивительная красота, светившаяся во взоре, — все говорило о нем как о человеке высоких достоинств, который карьере предпочел счастье и, отказавшись от славы, выбрал любовь.
Его звали Марен. Интересные подробности об этом можно найти у господина Фоконно-Дюфрена, в его «Развитии Центральной Франции». (Прим. автора.)
Нет нужды объяснять, что среди жителей Лиможа не было людей с такими именами. Нанон пришлось заменить в своих мемуарах настоящие фамилии вымышленными. (Прим. автора.)
Потом я узнала, что слова «Пар-элл» кельтского происхождения и означают «большой огненный камень»; он служил друидам жертвенником. (Прим. автора.)
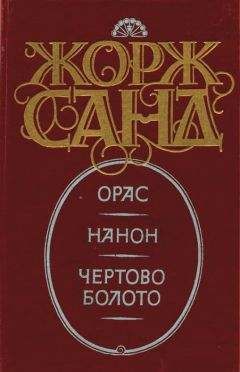
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)