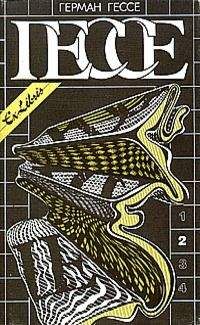Все нереальнее становилась недавняя сцена, все невероятнее казалось, что лишь несколько минут назад эти глаза глядели так тяжело и так леденяще. О, в этом Гермина была как сама жизнь: всегда лишь мгновенье, которого нельзя учесть наперед. Теперь она ела, и утиная ножка, салат, торт и ликер принимались всерьез, становились предметом радости и суждения, разговора и фантазии. Как только убирали тарелку, начиналась новая глава. Эта женщина, разглядевшая меня насквозь, знавшая о жизни, казалось, больше, чем все мудрецы вместе взятые, ребячилась, жила и играла мгновеньем с таким искусством, что сразу превратила меня в своего ученика. Была ли то высшая мудрость или простейшая наивность, но кто умел до такой степени жить мгновеньем, кто до такой степени жил настоящим, так приветливо-бережно ценил малейший цветок у дороги, малейшую возможность игры, заложенную в мгновенье, тому нечего было бояться жизни. И этот-то резвый ребенок со своим хорошим аппетитом, со своим игривым гурманством был одновременно мечтательницей и истеричкой, которая желает себе смерти, или расчетливой обольстительницей, которая сознательно и с холодным сердцем хочет добиться, чтобы я влюбился в нее и стал ее рабом? Это было невероятно. Нет, просто она так целиком отдавалась мгновенью, что с такой же готовностью, как любую веселую мысль, впускала в себя и переживала любой темный страх, мелькнувший в далеких глубинах ее души.
Эта Гермина, которую сегодня я видел второй раз, знала обо мне все, мне казалось невозможным что-либо от нее утаить. Может быть, она не вполне понимала мою духовную жизнь; в мои отношения с музыкой, с Гете, с Новалисом или Бодлером она, может быть, и не могла вникнуть — но и это было под большим вопросом, вероятно, и это удалось бы ей без труда. А если бы и не удалось — что уж там осталось от моей «духовной жизни»? Разве все это не рухнуло и не потеряло свой смысл? Но другие мои, самые личные мои проблемы и заботы, — их она все поняла бы, в этом я не сомневался. Скоро я поговорю с ней о Степном волке, о трактате, обо всем, что пока существует для меня одного, о чем я никому еще не проронил ни слова. Я не удержался от искушенья начать сейчас же.
— Гермина, — сказал я, — недавно со мной произошел странный случай. Какой-то незнакомец дал мне печатную книжечку, что-то вроде ярмарочной брошюрки, и там точно описаны вся моя история и все, что меня касается. Скажи, разве это не любопытно?
— Как же называется твоя книжечка? — спросила она невзначай.
— «Трактат о Степном волке».
— О, степной волк — это великолепно! И степной волк — это ты? Это, по-твоему, ты?
— Да, это я. Я наполовину человек и наполовину волк, так, во всяком случае, мне представляется.
Она не ответила. Она испытующе и внимательно посмотрела мне в глаза, посмотрела на мои руки, и на миг в ее взгляде и лице опять появились, как прежде, глубокая серьезность и мрачная страстность. Если я угадал ее мысли, то думала она о том, в достаточной ли мере я волк, чтобы выполнить ее «последний приказ».
— Это, конечно, твоя фантазия, — сказала она, снова повеселев, — или, если хочешь, поэтическая выдумка. Но что-то в этом есть. Сегодня ты не волк, но в тот раз, когда ты вошел в зал, словно с луны свалившись, в тебе и правда было что-то от зверя, это-то мне и понравилось.
Она вдруг спохватилась, запнулась и, словно бы смущенно, сказала:
— До чего глупо звучат такие слова — «зверь», «хищное животное»! Не надо так говорить о животных. Конечно, они часто бывают страшные, но все-таки они куда более настоящие, чем люди.
— Что значит «более настоящие»? Как ты это понимаешь?
— Ну, взгляни на какое-нибудь животное, на кошку или на собаку, на птицу или даже на каких-нибудь больших красивых животных в зоологическом саду, на пуму или на жирафу! И ты увидишь, что все они настоящие, что нет животного, которое бы смущалось, не знало бы, что делать и как вести себя. Они не хотят тебе льстить, не хотят производить на тебя какое-то впечатление. Ничего показного. Какие они есть, такие и есть, как камни и цветы или как звезды на небе. Понимаешь?
Я понял.
— Животные большей частью бывают грустные, — продолжала она. — И когда человек очень грустен, грустен не потому, что у него болят зубы или он потерял деньги, а потому, что он вдруг чувствует, каково все, какова вся жизнь, и грусть его настоящая, — тогда он всегда немножко похож на животное, тогда он выглядит грустно, но в нем больше настоящего и красивого, чем обычно. Так уж ведется, и когда я впервые увидела тебя, Степной волк, ты выглядел так.
— Ну а что, Гермина, ты думаешь о той книжке, где я описан?
— Ах, знаешь, я не люблю все время думать. Поговорим об этом в другой раз. Можешь мне дать ее как-нибудь почитать.
Она попросила кофе и казалась некоторое время невнимательной и рассеянной, а потом вдруг просияла и, видимо, достигла какой-то цели в своих раздумьях.
— Ау, — воскликнула она радостно, — наконец дошло!
— Что — дошло?
— Насчет фокстрота, у меня это ни на минуту не выходило из головы. Скажи, у тебя есть комната, где мы могли бы иногда часок потанцевать вдвоем? Пусть маленькая, это не важно, лишь бы не было под тобой жильца, который поднимется и устроит скандал, если у него чуть-чуть подрожит потолок. Что ж, хорошо, очень хорошо! Тогда ты можешь дома учиться танцевать.
— Да, — сказал я робко, — тем лучше. Но я думал, что для этого нужна и музыка.
— Конечно, нужна. Ну, так музыку ты себе купишь, это стоит самое большее столько же, сколько курс у учительницы танцев. На учительнице ты сэкономишь, ею буду я сама. Значит, и музыка будет всегда к нашим услугам, и вдобавок у нас еще останется граммофон.
— Граммофон?
— Разумеется. Ты купишь небольшую такую машинку и несколько танцевальных пластинок в придачу…
— Чудесно, — воскликнул я, — и если тебе действительно удастся научить меня танцевать, граммофон ты получишь в виде гонорара. Согласна?
Я сказал это очень бойко, но сказал не от чистого сердца. Я не мог представить себе такую совершенно несимпатичную мне машину в своем кабинетике, да и танцевать-то мне совсем не хотелось. При случае, думал я, это можно попробовать, — хоть и был убежден, что я слишком стар и неповоротлив и танцевать уж не научусь. Но так, с места в карьер — это было для меня слишком стремительно, и я чувствовал, как во мне восстает все мое предубеждение старого, избалованного знатока музыки против граммофона, джаза и современных танцевальных мелодий. И чтобы теперь в моей комнате, рядом с Новалисом и Жаном Полем, в келье, где я предавался своим мыслям, в моем убежище звучали американские шлягеры, а я танцевал под них, — этого люди никак не вправе были от меня требовать. Но требовали этого не какие-то отвлеченные «люди», требовала Гермина, а ей полагалось приказывать. Я подчинился. Конечно, я подчинился.
На следующий день, во второй его половине, мы встретились в кафе. Гермина уже сидела там, когда я пришел, и пила чай. Она, улыбаясь, показала мне газету, где обнаружила мое имя. Это был один из тех вызывающе реакционерных листков моей родины, в которых всегда время от времени проходили по кругу злопыхательские статейки против меня. Во время войны я был ее противником, после войны призывал к спокойствию, терпенью, человечности и самокритике, сопротивляясь все более с каждым днем грубой, глупой и дикой националистической травле. Это был опять выпад такого рода, плохо написанный, наполовину сочиненный самим редактором, наполовину состряпанный из множества подобных выступлений близкой ему прессы. Никто, как известно, не пишет хуже, чем защитники стареющей идеологии, никто не проявляет меньше опрятности и добросовестности в своем ремесле, чем они. Гермина прочла эту статью и узнала из нее, что Гарри Галлер — вредитель и безродный проходимец и что, конечно, дела отечества не могут не обстоять скверно, пока терпят таких людей и такие мысли и воспитывают молодежь в духе сентиментальной идеи единого человечества, вместо того чтобы воспитывать ее в боевом духе мести заклятому врагу.
— Это ты? — спросила Гермина, указывая на мое имя. — Ну, и нажил же ты себе врагов, Гарри. Тебя это злит?
Я прочел несколько строк, все было как обычно, каждое из этих стереотипных ругательств было мне уже много лет знакомо до отвращения.
— Нет, — сказал я, — меня это не злит, я давно к этому привык. Я не раз высказывал мнение, что, вместо того чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом «кто виноват», каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом, понять, насколько он сам, из-за своих собственных ошибок, упущений, дурных привычек, виновен в войне и прочих бедах мира, что это единственный путь избежать, может быть, следующей войны. Этого они мне не прощают, еще бы, ведь сами они нисколько не виноваты. — Кайзер, генералы, крупные промышленники, политики, газеты, — никому не в чем себя упрекнуть, ни на ком нет ни малейшей вины! Можно подумать, что в мире все обстоит великолепно, только вот десяток миллионов убитых лежит в земле. И понимаешь, Гермина, хотя такие пасквили уже не могут меня разозлить, мне иногда становится от них грустно. Две трети моих соотечественников читают газеты этого рода, читают каждое утро и каждый вечер эти слова, людей каждый день обрабатывают, поучают, подстрекают, делают недовольными и злыми, а цель и конец всего этого — снова война, следующая, надвигающаяся война, которая, наверно, будет еще ужасней, чем эта. Все это ясно и просто, любой человек мог бы это понять, мог бы, подумав часок, прийти к тому же выводу. Но никто этого не хочет, никто не хочет избежать следующей войны, никто не хочет избавить себя и своих детей от следующей массовой резни, если это не стоит дешевле. Подумать часок, на какое-то время погрузиться в себя и задаться вопросом, в какой мере ты сам участвуешь и виновен в беспорядке и зле, царящих в мире, — этого, понимаешь, никто не хочет! И значит, так будет продолжаться, и тысячи людей будут изо дня в день усердно готовить новую войну. С тех пор как я это знаю, это убивает меня и приводит в отчаянье, для меня уже не существует ни «отечества», ни идеалов, это ведь все только декорация для господ, готовящих следующую бойню. Нет никакого смысла по-человечески думать, говорить, писать, нет никакого смысла носиться с хорошими мыслями: на двух-трех человек, которые это делают, приходятся каждодневно тысячи газет, журналов, речей, открытых и тайных заседаний, которые стремятся к обратному и его достигают.