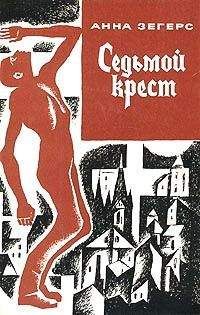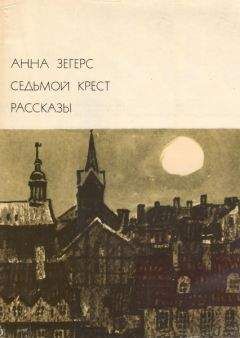– Ну? – Она подождала, затем вдруг, как будто непроизвольным движением, сшибла с него котелок. – Долой это! Разве у него нет фуражки?
– Его вещи у меня на квартире, – сказал Пауль. – Он должен был сегодня ночевать у нас, но у нашего малыша сыпь, и Лизель боится, что это корь.
– Поздравляю, – сказала фрау Грабер. – Что же вы торчите в воротах? Либо сюда, либо вон отсюда.
– Ну, всего, Отто, будь здоров, – сказал Пауль, который все еще держал в руках котелок Георга. – До свидания, тетя Катарина, хейль Гитлер!
Тем временем Георг внимательно изучал лицо женщины, от которой в ближайшие часы будет зависеть его судьба. Теперь и она осмотрела его в третий раз, на этот раз жестко и обстоятельно. Он выдержал ее взгляд – с обеих сторон не было никаких оснований для снисходительности.
– Сколько лет?
– Сорок три.
– Значит, Пауль наврал мне, у меня не богадельня.
– А вы сначала посмотрите, что я умею!
Ноздри фрау Грабер презрительно дрогнули.
– Знаю я, что вы все умеете. Ну, живо, переодевайся.
– Одолжите мне комбинезон, фрау Грабер! Мои вещи остались у Пауля.
– Гм!
– Откуда я знал, что у вас ночная работа?
Тогда она начала браниться на чем свет стоит и бранилась несколько минут. Георг не удивился бы, если бы она его прибила. Он молча слушал ее с едва уловимой улыбкой, которую она, может быть, заметила, а может, и вовсе не заметила при неверном свете фонаря. Когда она наконец замолчала, он сказал:
– Если у вас не найдется комбинезона, мне придется работать в подштанниках. Откуда я знаю ваши порядки, если я сегодня первый день на работе?
– Слушай, забери-ка его сейчас же обратно! – закричала фрау Грабер Паулю, вновь появившемуся во дворе с котелком Георга в руках. Он уже успел выбежать на улицу, и ему уже крикнули «хейль» из пивной, и он уже помахал в ответ, как вдруг вспомнил о котелке. Пауль, удивленный, состроил гримасу.
– Дай ему хоть попробовать. А завтра я приду, и ты мне скажешь, что и как. – И он смылся со всей быстротой, на какую был способен.
– Без такого человека, как Пауль, – сказала фрау Грабер спокойно, – такой парень, как вы, пропал бы. У меня работа не для инвалидов. Ну, пойдемте!
Он последовал за ней через двор, где для него было слишком светло и людно. Народ то и дело входил и выходил из задних дверей пивной и из подъездов. Уже кое-кто поглядывал на него. Перед открытым гаражом, возле пустой машины, стоял полицейский. Вот принесла его нелегкая, подумал Георг, весь покрываясь испариной. Полицейский не обратил на него никакого внимания, он спрашивал у фрау Грабер какие-то бумаги.
– Вот поищите себе тут что-нибудь, в этом тряпье, – сказала хозяйка Георгу.
В гараже был чулан с окошком, служивший конторой. Полицейский безучастно следил за Георгом, пока тот примерял один из валявшихся на полу засаленных комбинезонов. Затем поднял глаза на открытое освещенное окошко, в котором виднелась крупная белая голова хозяйки.
– Ну и баба! – пробормотал он.
Когда он ушел, женщина высунулась из окна и оперлась локтями на подоконник; очевидно, она считала это окно своим главным командным пунктом. Она опять начала браниться и кричать:
– Пошел отсюда во двор, паршивый лодырь! Приготовь машину, через полтора часа она идет в Ашаффенбург. Живо!
Георг подошел к окну. Подняв голову, он сказал:
– Будьте так добры и объясните мне точно и спокойно, что именно я должен делать.
Она сощурилась. Ее взгляд сверлил лицо этого субъекта, о котором ей говорили, что это довольно распущенный парень, разоривший семью. Но как она ни сверлила его, она ничего не могла прочесть на этом лице, видимо изувеченном во время автомобильной аварии. Обычно от ее взгляда леденело все, чего он касался, здесь же впервые она сама почувствовала, как на нее повеяло чем-то леденящим. Тогда она спокойно принялась объяснять Георгу, что надо делать. Она пристально следила за ним. Спустя некоторое время она вышла и встала рядом, показывая и торопя. Его рана, еще только начавшая заживать, снова раскрылась. Когда он стал завязывать ее какой-то грязной тряпкой, действуя зубами и левой рукой, хозяйка сказала:
– Если ты здоров, тогда живей, если нет – катись отсюда!
Он не ответил и даже не взглянул на нее. Какая есть, такая есть, размышлял он. Ничего не поделаешь, да и потом, всему ведь бывает конец. Он работал быстро и усердно и вскоре так устал, что уже был не в силах ни пугаться, ни думать.
Тем временем Лизель сидела в темной кухне и ждала. Десять минут истекло, а Пауль не вернулся, значит, он пошел с Георгом дальше угла. Что же случилось? Что они затеяли? Отчего Пауль не сказал ей ни словечка?
Вечер был неподвижен и тих. Стук на четвертом, брань на втором, марши по радио и смех из окна в окно через улицу не могли заглушить этой тишины, а главное – легких шагов на лестнице.
Только один раз в жизни Лизель пришлось иметь дело с полицией. Ей было тогда лет десять – одиннадцать, один из ее братьев что-то натворил, может быть, именно тот, который потом погиб на войне, – в семье никогда об этой истории не вспоминали, она была похоронена вместе с ним во Фландрии. Но страх, который тогда душил всю семью, до сих пор остался у нее в крови; страх, не имеющий ничего общего с нечистой совестью, страх бедняка, страх неимущего перед преследующим его государством. Древний страх, который лучше всяких конституций и исторических книг говорит о том, чьи интересы защищает государство. И вместе с тем Лизель решила бороться, отстаивать себя и свое племя когтями и зубами, хитростью и коварством.
Когда шаги миновали последнюю площадку и стало совершенно ясно, что кто-то идет сюда, она вскочила, зажгла свет и запела срывающимся, сдавленным голосом. Свет и пение, решила она, – самые убедительные доказательства, что у людей совесть чиста. И действительно, человек, стоявший за дверью, некоторое время, видимо, колебался, перед тем как позвонить.
Он был не в мундире. Свет, зажженный Лизель, упал на его лицо. Маловыразительное и топорное, оно показалось ей незнакомым и не внушающим доверия. Наверно, шпик, решила про себя Лизель. В своих мыслях она выражалась именно так; она, наверно, подхватила где-нибудь это слово, так как Пауль едва ли говорил с ней о подобных вещах. Наверняка прячет свой сволочной значок под пиджаком.
– Вы фрау Редер? – спросил незнакомец.
– Как видите.
– Ваш муж дома?
– Нет, – сказала Лизель, – нет его.
– А когда он примерно вернется?
– Право, не могу сказать.
– Но когда-нибудь он же вернется?
– Понятия не имею.
– Разве он уехал из города?
– Да, да, уехал. У него дядя умер. – Полускрытая дверью и падавшей на нее тенью, она следила за незнакомцем и увидела, как его лицо передернулось; очевидно, он был разочарован. «Ну, что еще надо?» – мысленно торопила она его.
Он уже собрался уходить, но вдруг снова обернулся к ней:
– А давно он уехал?
– Порядочно.
– В таком случае хейль Гитлер! – Он пожал плечами, даже спина его выражала разочарование.
Лизель опять испугалась: а что, если он начнет расспрашивать дворничиху? Сняв башмаки, она на цыпочках вышла на лестницу, прислушиваясь, но неизвестный ничего не спросил. Когда она вернулась к кухонному окну, она увидела, что он уже уходит по тихой улице.
Какая-то надежда, какой-то верный инстинкт заставили Франца зайти в этот вечер к Редерам. И вот он шагал обратно к трамвайной остановке по безлюдным улицам, унылый и огорченный. Он поехал на другой конец города, где была пивная, в которой оставил свой велосипед. И уже после этого направился к Герману.
Герман был настолько уверен в приходе Франца, что, не видя его, все больше тревожился. Франц редко пропускал столько вечеров подряд. В этот вечер Герман вдруг понял, что нуждается в обществе Франца, приходившего к нему за советами, и в самом Франце больше, чем мог думать. Эти советы, которых Франц, спокойно глядя на Германа, обычно от него требовал, чтобы потом неукоснительно им следовать, казалось, без Франца не могли бы и появиться на свет, не могли бы быть Германом осознаны. Когда они услышали наконец под окном звонок велосипеда, Эльза торопливо вытерла передником клеенку на столе, а Герман, скрывая свою радость, вытащил из ящика кухонного стола шахматную доску.
Но радость Германа в этот вечер была непродолжительна, она исчезла, как только Франц занял свое место за столом. Франц был совсем другой, чем обычно. И он долго молчал.
Герман не торопил его. В конце концов Франц заговорил: он выложил Герману все, что его угнетало. Сначала Герман слушал просто со вниманием, затем удивленно, затем с тревогой. Франц рассказал все, что было. Как он трижды виделся с Элли – в кино, на рынке и в мансарде у ее родных. Как они вместе перебрали всю жизнь Георга и, роясь в воспоминаниях, старались угадать, к кому Георг мог обратиться за помощью; как Франц шел по этим следам, одержимый мыслью отыскать Георга. Как это кончилось неудачей – и потом вообще…