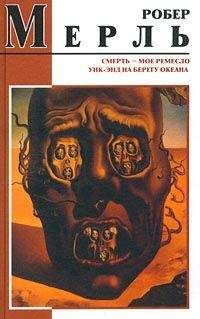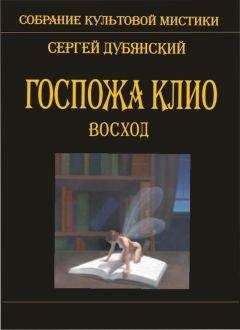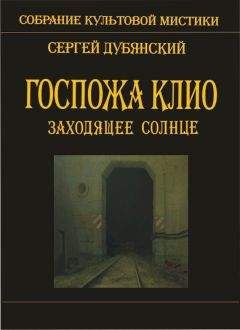— Вы совершенно бесчеловечны.
Он резко повернулся ко мне спиной и вышел. Я почувствовал облегчение. Эти посещения и разговоры очень утомляли меня, и я считал их совершенно бесполезными.
После того как я дал показания на Нюрнбергском процессе, американцы передали меня полякам. На этом настояли поляки — ведь Освенцим находится на их территории. 11 марта 1947 года, почти год спустя после моего ареста, начался процесс. Он состоялся в Варшаве, в большом зале с голыми белыми стенами. Передо мной установили микрофон, и благодаря наушникам, которыми меня снабдили, я одновременно слышал по-немецки перевод всего того, что говорилось по-польски.
Когда кончилось чтение обвинительного акта, я попросил слова, поднялся, стал навытяжку и сказал:
— За все что произошло в Освенциме, ответственность несу только я, мои подчиненные тут ни при чем. Но я хотел бы только внести некоторые поправки, касающиеся лично меня.
— Вы будете говорить в присутствии свидетелей, — сухо произнес председатель суда.
Началось бесконечное шествие свидетелей. Меня поразило, что поляки вызвали их в таком количестве, дали себе труд (и, по всей вероятности, понесли немалые расходы) доставить свидетелей со всех концов Европы. Присутствие их было ни к чему. Ведь я ничего не отрицал. На мой взгляд, это было совершенно напрасной потерей времени и денег. Видя все это, я окончательно усомнился в том, что славяне когда-либо дадут миру расу начальников.
Между прочим, некоторые из свидетелей пороли такую чушь, что это заставило меня несколько раз выйти из себя. Так, например, один утверждал, что сам видел, как я застрелил охранника. Я попытался объяснить судьям, что будь я даже тем чудовищем, которым свидетели хотят представить меня, никогда бы я ничего подобного не сделал — это противоречит моей чести офицера.
Другой свидетель говорил, будто видел, как я приканчивал расстреливаемых. Я снова объяснил, что такой факт сам по себе был невозможен. Пристреливать заключенных — дело начальника взвода эсэсовцев, а отнюдь не коменданта лагеря. Комендант лагеря мог присутствовать при расстрелах, но никак не стрелять сам. Это противоречило бы уставу.
Однако было совершенно ясно, что суд не придает никакого значения моим словам. Судьи старались использовать все, что я говорю, главным образом против меня самого. Как-то прокурор воскликнул: «Вы уничтожили три с половиной миллиона человек!» Я попросил слово и ответил: «Прошу прощения, я уничтожил лишь два с половиной миллиона». По залу пронесся гул, и прокурор крикнул, что я должен был бы постыдиться подобного цинизма. Но ведь я ничего предосудительного не сказал, я только уточнил цифры.
Большинство моих диалогов с прокурором принимало именно такой оборот. Так, например, по поводу посылки грузовиков в Дессау за коробками с кристаллами он спросил:
— Почему вы были так озабочены посылкой грузовиков в Дессау?
— Когда запасы газа уменьшались, естественно, я должен был сделать все возможное, чтобы пополнить их.
— В общем, — заметил прокурор, — для вас это было все равно, что запасы хлеба или молока?
Я терпеливо ответил:
— Для этого я и существовал.
— Итак, — торжествующим голосом воскликнул прокурор, — вы существовали для того, чтобы было как можно больше газа и чтобы уничтожить как можно больше людей!
— Таков был приказ.
Прокурор тогда обернулся к судьям и заявил, что, мол, я не только согласился уничтожать евреев, но из честолюбия еще и задался целью уничтожить их как можно больше.
Я снова попросил слова и заметил прокурору: то, что он говорит, неточно. Я никогда не советовал Гиммлеру увеличивать количество доставляемых мне евреев. Наоборот, я неоднократно просил рейхсфюрера меньше присылать мне транспортов.
— Вы не можете все же отрицать, — сказал прокурор, — что вы проявляли исключительное рвение и огромную инициативу в деле уничтожения людей?
— Я проявил рвение и инициативу в выполнении данных мне распоряжений. Но сам я ни в коей мере не добивался таких приказов.
— А вы что-нибудь сделали, чтобы избавиться от своих жутких обязанностей?
— Я просил об отчислении на фронт еще до того, как рейхсфюрер поручил мне уничтожить евреев.
— А потом?
— Потом вопрос уже так не стоял — иначе можно было бы подумать, что я увиливаю от порученного мне дела.
— Значит, дело это вам нравилось?
— Нет. Оно мне совсем не нравилось, — решительно ответил я.
Прокурор сделал паузу, посмотрел мне в глаза, развел руками и продолжал:
— Тогда не скажете ли нам, что вы думали о таком задании?
Наступило молчание, все взоры устремились на меня. Я подумал немного и сказал:
— Это была нудная работа.
Прокурор опустил руки — по залу снова прокатился гул. Немного позже прокурор сказал:
— В ваших показаниях я читаю: «Еврейки часто прятали детей под смятой одеждой, чтобы не брать их с собой в газовую камеру. Особой команде заключенных был дан приказ — обыскивать одежду под наблюдением эсэсовцев. Обнаруженных детей бросали в газовую камеру».
— Вы так сказали, не правда ли? — спросил он, подымая голову.
— Да, — ответил я и добавил: — И все же я считаю необходимым внести поправку.
Он сделал знак рукой, и я продолжал:
— Я не сказал, что детей «бросали». Я сказал, что их «отправляли» в газовую камеру.
— Не в словах дело! — с раздражением воскликнул прокурор. — И вас не трогало поведение этих несчастных женщин, которые, идя на смерть, все же рассчитывали на великодушие палачей и делали отчаянную попытку спасти своих младенцев?
— Я не мог себе позволить проявлять какие бы то ни было чувства. Я выполнял приказы. Дети рассматривались как нетрудоспособные. Я обязан был их отравлять.
— И вам никогда не приходило в голову пощадить их?
— Мне никогда не приходило в голову нарушить приказ. А впрочем, — добавил я, — что бы я делал с детьми в КЛ? КЛ — не место для детей.
— Ведь вы сами отец семейства? — заметил он.
— Да.
— И вы любите своих детей?
— Разумеется.
Он сделал паузу, медленно обвел взглядом зал и обернулся ко мне.
— Как же мирится ваша любовь к собственным детям с вашим отношением к маленьким евреям?
Я ответил:
— Это разные вещи. В лагере я был солдатом. Дома я им не был.
— Вы хотите сказать, что вы по природе двойственный человек?
Я поколебался и ответил:
— Да, пожалуй...
Но зря я так ответил, потому что во время своей обвинительной речи прокурор воспользовался этим, чтобы говорить о моей «двуличности». В другом месте, напомнив о том случае, когда меня вывели из себя некоторые свидетели, он воскликнул: «Эта двуличность проявляется даже в выражении лица подсудимого, который то производит впечатление маленького аккуратного чиновника, то какого-то страшного, готового на все зверя».
Он сказал также, что, не довольствуясь выполнением приказов, сделавших из меня «самого большого убийцу нашего времени», я проявил при исполнении своих обязанностей еще невероятные лицемерие, цинизм, жестокость.
2 апреля председатель суда зачитал мне приговор. Я выслушал его, стоя навытяжку. Приговор был таким, как я и ожидал.
В приговоре, помимо всего прочего, указывалось, что я должен быть повешен не в Варшаве, а в своем лагере, в Освенциме, на виселице, которую я сам соорудил для заключенных.
Спустя минуту после того, как кончили читать приговор, стоявший от меня справа конвоир тихо дотронулся до моего плеча. Я снял наушники, положил их на стул, повернулся к своему адвокату и сказал:
— Благодарю вас, господин адвокат.
Адвокат кивнул мне, но руки не подал.
Я вышел в сопровождении конвоиров через маленькую дверь справа от стола судей. Я прошел длинный ряд коридоров, по которым никогда еще не проходил. Они освещались большими окнами, и стена была залита светом. Стоял ясный морозный день.
Несколько минут спустя дверь моей камеры захлопнулась за мной. Я сел на койку и попытался собраться с мыслями, но тщетно. Мне казалось, что моя смерть не имеет ко мне никакого отношения.
Я встал и принялся расхаживать по камере. Прошло некоторое время, и я заметил, что отсчитываю шаги.
Папа! Папа! (арабск.)
Каналья! (франц.)
«Раса, земля и меч» (нем.).
Что поделаешь! (франц.)
Капо — надсмотрщик из заключенных.
Фешенебельный ресторан в Париже.