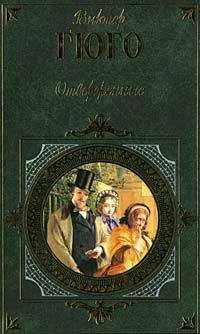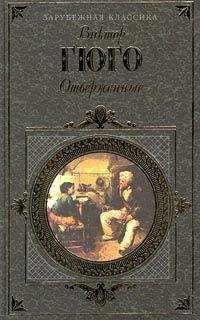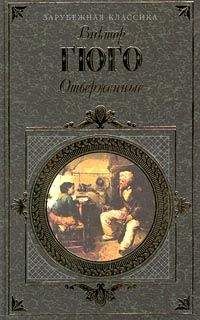Глава третья.
Перо кажется слишком тяжелым тому, кто поднимал телегу Фошлевана
Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он чувствовал себя слабее, чем когда-либо. Чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот.
С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах.
Он открыл сундучок и вынул из него детское приданое Козетты.
Он разложил его на постели.
На камине, на обычном месте, стояли подсвечники епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Свечи, зажженные среди бела дня, можно иногда видеть в домах, где есть покойник.
Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в последних тяжких усилиях.
Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для — Мариуса, — здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. На вид ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему давали не больше пятидесяти; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела землистый оттенок, углы рта опустились, как на масках, высекавшихся в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии — жертву несправедливого рока.
Он дошел до такого состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния.
Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу.
И тут он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток.
Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платьице, на все свои бесценные сокровища.
Он мог любоваться так часами, которые казались ему минутами. Вдруг он вздрогнул, почувствовав, как его охватывает холод; облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо.
Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он несколько раз останавливался и присаживался, писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он отирал со лба пот.
Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они:
«Козетта! Благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси! Всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта! Здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготовлять искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным — для золотых. Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат…»
Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался.
«О! — вскричал он мысленно (это была жалоба, услышанная только богом). — Все кончено! Я больше не увижу ее. Это улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!»
В эту минуту в дверь постучались.
Глава четвертая.
Ушат грязи, который мог лишь обелить
В этот самый день, точнее в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела. Баск вручил ему письмо и сказал:
— Господин, который принес это письмо, ожидает в передней.
Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду.
Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий, сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода.
Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел. «Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке молнии. И одна из таких догадок осенила Мариуса.
Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживило в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное — это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета.
Итак — странный каприз судьбы! — один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в руки.
Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел:
«Господин барон,
Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом академии, но я не барон. Я только его однофамилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я придоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого симейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может дольше сожительствовать с приступлением, иначе она падет.
Я ажидаю в пнредней приказаний господина барона.
С почтением».
Письмо было подписано «Тенар».
Подпись была не вымышленной. Только несколько укороченной.
Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография помогали разоблачению. Авторство устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло.
Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось радостью. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, — того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось желать.
Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь.
— Попросите войти, — сказал Мариус.
Баск доложил:
— Господин Тенар.
В комнату вошел человек.
Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком.
У этого человека, впрочем тоже пожилого, был толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывавшие лоб до самых бровей, подобно парику кучера из аристократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина.