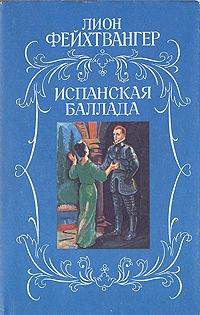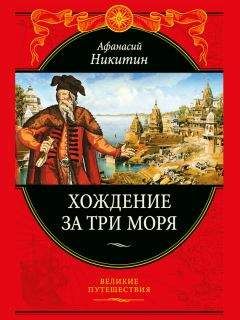Впрочем, не для всего. Она не умела высказать Альфонсо, как любит его, да и нигде, кроме древних песен в Великой Книге, не нашлись бы для этого подходящие слова. И вот она рассказывала ему о звучных, ликующих, страстных стихах Песни Песней. Она пыталась перевести эти стихи для него на свой арабский язык, и на его вульгарную латынь, и на им одним понятную помесь этих двух языков. Только так могла она высказать ему всю свою любовь.
Она прочла ему и туманные стихи того псалма, где в чересчур пышных словах превозносится блеск и слава царя и краса его невесты. Он был несказанно удивлен, что древние иудейские цари были еще горделивее христианских королей-рыцарей.
Но вот однажды утром он, по внезапному наитию, собрался с духом и попросил её сломать наконец последнюю преграду, разделяющую их, и перейти в истинную веру, дабы она уже христианкой родила ему сына-христианина. Ракель посмотрела на него скорее с изумлением, нежели с укором или гневом.
— Этого я не сделаю, и не заговаривай больше об этом, Альфонсо, — тихо, но решительно сказала она.
На следующий день она показала Альфонсо те три наброска, которые сделал с неё дон Вениамин. Он долго и старательно вглядывался в рисунки. Как объяснила ему Ракель, дону Вениамину потребовалось немало мужества, чтобы нарисовать ее; рисовать чье-либо изображение запрещается и законом Моисея, и законом Магомета. Дону Альфонсо не понравилось, что Ракель знается с этим доном Вениамином; надо полагать, Вениамин поддерживает в ней её злостное упорство.
— Раз ему не дозволено рисовать, так пусть и не рисует, — сердито буркнул он, — я не терплю еретиков. Мои подданные должны подчиняться законам своей религии.
Ракель была ошеломлена. Как же он от неё требует самой тяжкой ереси-отречения от веры предков?
Альфонсо заметил её смятение.
— На свете должны быть люди, короли и священнослужители, которые предписывают законы, — принялся он втолковывать ей, — а низшим не полагается умничать над законами. Пусть следуют им беспрекословно, вот и все.
Но когда она собралась унести рисунки, он попросил:
— Оставь мне их, пусть побудут у меня.
Когда она ушла, он снова долго всматривался в её изображения и при этом покачивал головой. Перед ним была его Ракель и все-таки не совсем она. Он открывал в ней совершенно незнакомые ему черты. Но ведь он-то знает её лучше, чем кто бы то ни было. Видно, красота её неисчерпаема, а душа многолика, как облака в небе и волны на реке Тахо.
В Толедо прибыли музыканты-мусульмане. Их думали было не пускать в Кастилию, сочтя это неуместным ввиду войны, но Альфонсо легкомысленно заявил, что не мешает напоследок, перед тем как разразится настоящая война, насладиться искусством мусульманских певцов. Итак, они очутились тут, и те из толедцев, которые претендовали на просвещенность и утонченный вкус, приглашали их к себе в дом попеть и поиграть.
Альфонсо вытребовал их в Галиану. Их было четверо — двое мужчин и две девушки; мужчины, как большинство музыкантов, были слепые, потому что женщины жаждут рассеять музыкой гаремную скуку, но нельзя, чтобы мужчины смотрели на них в гареме. Музыканты принесли с собой гитару, флейту, лютню и канун — нечто вроде клавикордов. Они играли и пели медлительные, монотонные и все же волнующие мелодии. Сперва они исполнили эпические песни, и среди них знаменитую старинную — о Сиде Кампеадоре; проживавший в мусульманской Андалусии еврей Абен-Алфанке сочинил её во славу неприятельского рыцаря. Затем они стали петь новые песни, которые были теперь в ходу в Гранаде, Кордове и Севилье. Они пели о красоте этих городов, об их садах, водоемах, об их девушках и рыцарях. Кормилица Саад не могла сдержать слезы. И Ракель тоже ощутила тоску по Севилье. Но тоска была не мучительная, она не омрачала счастья Галианы, а лишь углубляла его.
Под конец слепцы спели романсы и баллады о событиях недавнего прошлого и настоящего, но только принявшие сказочный оттенок, лишенные временных пределов, — все это могло точно так же происходить и сейчас, и пятьсот лет назад. Между прочим спели они и романс о неверном короле-христианине; он влюбился тоже в неверную, только в еврейку, и жил с ней у себя в замке долгие дни, месяцы, годы, упорствуя в своем неверии, а она в своем, и неужто же Аллах попустит, чтобы это сошло благополучно? Слепцы пели с чувством, одна из девушек перебирала струны лютни, другая ударяла по клавишам кануна. Ракель слушала и улыбалась, она была уверена, что Аллах все приведет к счастливому концу. Королю стало не по себе, но он смехом разогнал неприятное чувство.
Почти все шесть тысяч франкских евреев-беженцев осели в Кастилии и понемногу свыкались с жизнью и делами страны. Веселый шум всеобщего благоденствия заглушал злобные речи прелатов и баронов.
Из-за всеобщего благоденствия и затея Иегуды, почерпнутая из Книги Эсфирь, — пресловутый «счастливый горшок», иначе говоря, лотерея, — имела баснословный успех. Купив билет за несколько сольдо, можно было выиграть десять золотых мараведи. Играли все — гранды, горожане, зависимые крестьяне. Они радовались выигрышу и считали его своей личной заслугой; а если был проигрыш — все равно они целые недели жили в счастливом ожидании и теперь надеялись на следующий раз.
Торговые дела Иегуды с иноземными государствами шли как нельзя лучше, и его имя пользовалось известностью от Лондона до Багдада.
Хотя Иегуда и себе, и всему свету представлялся окер харимом, человеком, способным двигать горы, все же иногда по ночам на него нападал страх: «Сколько времени продлится мое счастье?». Он не забыл, в какую бездну отчаяния повергло его известие о смерти инфанта. Тогда он не сомневался, что Альфонсо, не медля ни минуты, выступит в поход, а его и Ракели счастью придет конец. Но потом ему довелось увидать, как беременность Ракели еще крепче привязала к ней короля, и ему стало стыдно, что он усомнился в своем счастье. И тем не менее он не мог полностью избавиться от воспоминания о пережитых часах отчаяния, и, главным образом по ночам, пылкое воображение рисовало перед ним страшные картины. Рано или поздно, наперекор всем его ухищрениям, начнется война, длительная, суровая война, в ней будут и успехи и неудачи, и вину за первое же поражение припишут ему, Иегуде, и толедской альхаме. Великое бедствие постигнет кастильских евреев, и вся ярость Эдома обрушится на него и на его дочь.
Даже и ближайшее будущее представлялось ему неверным. Что будет, когда Ракель произведет на CBCI младенца? Временами Иегудой овладевали дерзкие, безумные мечты о том блеске, каким будет окружен его внук. И в христианском мире баррагана, королевская наложница, пользовалась большими правами, и рожденное ею дитя в правовом отношении стояло немногим ниже законных детей. Испанские короли делали из своих бастардов знатных вельмож. Перед Иегудой маячила мечта, что его внук, чего доброго, станет кастильским принцем.
Однако его трезвый рассудок не замедлил развеять дерзостную мечту и показать, какими опасностями для него и для Ракели чревато рождение этого внука. Дон Альфонсо, разумеется, пожелает, чтобы его сын был крещен; чистое безумие требовать от короля Кастилии, чтобы он растил родного сына «в ереси». И все-таки Иегуда должен решиться на это безумие.
Господь посмеялся над ним. Адонай посмеялся над ним. Господь не простил ему, что он столько времени оставался мешумадом. Господь захотел его испытать, а он не выдержал испытания и лишился сына Аласара. Теперь же господь вторично испытывает его.
Не только узколобый и непреклонный рабби Товий, но самый свободомыслящий из всех ныне здравствующих еврейских мудрецов, господин и учитель наш Моисей бен Маймун, наистрожайше требовал от евреев, чтобы они оставались тверды, невзирая ни на какие испытания, и не допускали своих детей до такого падения, как переход в христианство. В десятый раз перечитывал Иегуда «Послание о вероотступничестве». Кто под страхом смерти признает себя последователем пророка Магомета, так учил в этом послании бен Маймун, тот еще не погиб. Погибшим должен считаться тот, кто подставляет голову под воды крещения, ибо признание триединства — это ни более ни менее, как идолопоклонство, нарушение второй заповеди. И бен Маймун приводил стих из Священного писания: «Кто дает из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. И если народ земли не обратит очей своих на человека того и не умертвит его, то я обращу лице мое на человека того и на род его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его.».
Иегуда доверился надежному другу Мусе. Мусе было понятно, что Иегуда даже слышать не желает о крещении своего внука.
— Но как можешь ты воспретить королю Толедо и Кастилии, чтобы он воспитывал свое дитя в христианской вере? — спросил Муса. Иегуда нерешительно заметил, что он и Ракель могли бы бежать до того, как младенец народится на свет. Муса отверг этот план.