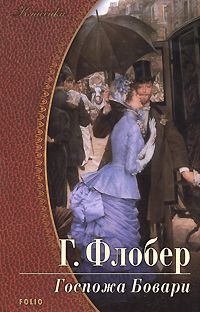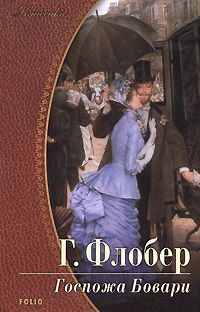В два часа она побежала к Леону, постучалась. Ее не впустили.
Наконец появился он сам.
— Зачем ты здесь?
— Тебе это неприятно?
— Нет… но…
И он признался: хозяин не любит, чтобы жильцы «принимали женщин».
— Мне надо с тобой поговорить, — сказала Эмма.
Он взялся за ключ. Она удержала его.
— О нет, не здесь — у нас.
И они пошли в свою комнату в гостиницу «Булонь».
Войдя, Эмма выпила большой стакан воды. Она была очень бледна. Она сказала:
— Леон, ты должен оказать мне услугу.
И, крепко схватив его за руки, тряся их, объявила:
— Послушай, мне нужны деньги — восемь тысяч франков!
— Да ты с ума сошла!
— Нет еще!
И она тотчас рассказала про опись, обрисовала свое отчаянное положение: Шарль ничего не знает, свекровь ненавидит ее, отец ничем не может помочь; но он, Леон, он должен похлопотать и найти эту необходимую сумму…
— Но что же делать?..
— Как ты жалок! — воскликнула Эмма.
Тогда он глупо сказал:
— Ты преувеличиваешь беду. Возможно, твой старик успокоится на какой-нибудь тысяче экю.
Тем больше оснований попытаться что-нибудь сделать; быть не может, чтобы нельзя было достать три тысячи франков. Наконец Леону удалось бы занять и от ее имени.
— Иди же, попытайся! Так надо! Ну, беги!.. О, постарайся, постарайся! Я буду так любить тебя!
Он ушел, но через час вернулся и торжественно сказал:
— Я был у троих… ничего не вышло!
Неподвижно, молча сидели они лицом к лицу по обе стороны камина. Эмма, вся кипя, пожимала плечами. Он услышал ее шепот:
— На твоем месте я бы уж нашла!
— Но где же?
— У себя в конторе!
И она поглядела на него.
Адская смелость лучилась из ее горящих глаз; веки сладострастно смежались, она подстрекала его взглядом. Леон почувствовал, что воля в нем слабеет под немым воздействием этой женщины, толкающей его на преступление. Тогда он испугался и, чтобы прервать разговор на эту тему, вдруг хлопнул себя по лбу.
— Да ведь ночью должен вернуться Морель! — воскликнул он. — Надеюсь, он мне не откажет. (Морель, сын очень богатого коммерсанта, был его приятелем.) Завтра я принесу тебе деньги, — заключил он.
Эмма, казалось, приняла это далеко не с таким восторгом, как он воображал. Неужели она подозревала ложь? Он покраснел и заговорил снова:
— Но если к трем часам я не явлюсь, дорогая, ты больше меня не жди. Ну, прости меня: пора уходить. Прощай!
Он пожал ей руку, но пальцы ее оставались неподвижны. У Эммы не было сил ни на какое чувство.
Пробило четыре часа, и, повинуясь привычке, она, словно автомат, встала с места, чтобы ехать обратно в Ионвиль.
Погода стояла прекрасная; был один из тех ясных и свежих мартовских дней, когда солнце сверкает в совершенно белом небе. Разряженные по-воскресному руанцы гуляли по улицам и, казалось, были счастливы. Эмма попала на соборную площадь. Народ выходил от вечерни; толпа текла из трех порталов, словно река из трех пролетов моста, а по самой середине неподвижно, как скала, стоял швейцар.
И тут Эмма вспомнила день, когда, вся взволнованная сомнениями и надеждами, она входила в этот огромный неф, а любовь ее была еще глубже храма; оглушенная, растерянная, чуть не теряя сознание, она шла все дальше, и под вуалью слезы катились из ее глаз.
— Берегись! — крикнул голос из распахнувшихся внезапно ворот.
Она остановилась и пропустила тильбюри: вороная лошадь так и плясала в его оглоблях; правил какой-то джентльмен в собольей шубе. Кто бы это был? Он показался Эмме знакомым… Экипаж покатил вперед и исчез.
Да, это он, виконт! Эмма обернулась: улица была пуста. И она почувствовала себя такой разбитой, такой несчастной, что прислонилась к стене, чтобы не упасть.
Потом она подумала, что ошиблась. В конце концов она ведь ничего не знала. Все, что было в ней самой и во внешнем мире, — все теперь ее обманывало. Ей казалось, что она погибла, что она безвольно катится в бездонную пропасть; и, дойдя до «Красного креста», она почти с радостью увидела милого Омэ; он наблюдал, как носильщики грузили в «Ласточку» большой ящик аптекарских товаров. В руке он держал узелок с полдюжиной местных тюрбанчиков для жены.
Г-жа Омэ очень любила эти жесткие булочки в форме чалмы. Их едят постом, намазывая соленым маслом: это уцелевший пережиток средневековой кухни, восходящий, быть может, ко времени крестовых походов. Когда-то таким хлебом наедались коренастые нормандцы: при желтом свете факелов им казалось, что перед ними на столе, среди кувшинов вина с корицей и гигантских окороков, лежат сарацинские головы. Несмотря на свои плохие зубы, аптекарша, подобно предкам, героически грызла тюрбанчики, и потому г-н Омэ в каждый свой приезд в город неукоснительно покупал их для нее у искуснейшего булочника на улице Массакр.
— Рад вас видеть! — сказал он, подсаживая Эмму в «Ласточку».
Затем он подвесил покупку к ремням багажной сетки, снял шляпу и, скрестив руки, застыл в наполеоновской задумчивой позе.
Но когда у подошвы холма, по обыкновению, показался слепой, он воскликнул:
— Не понимаю, как это власти все еще терпят столь предосудительный промысел! Таких несчастных следовало бы изолировать и принуждать к какому-нибудь полезному труду. Честное слово, прогресс идет черепашьим шагом, мы все еще коснеем в полном варварстве!
А слепой протягивал шляпу, и она тряслась у края занавески, словно отставший от стены лоскут обоев.
— Характерная золотуха! — сказал фармацевт.
Он отлично знал бедного малого, но притворился, будто видит его впервые, и стал бормотать ученые слова: роговая оболочка, непрозрачная роговая оболочка, склероз, habitus,[12] а потом отеческим тоном спросил:
— Давно ли, друг мой, ты страдаешь этим ужасным заболеванием? Вместо того чтобы пьянствовать в кабаках, тебе бы лучше придерживаться полезного режима!
И посоветовал хорошее вино, хорошее пиво, хорошее жаркое. Слепой все тянул свою песенку; он вообще казался полуидиотом. Наконец господин Омэ открыл свой кошелек.
— На вот тебе су, дай мне два лиара сдачи. И не забывай моих советов — они пойдут тебе впрок.
Ивер позволил себе высказать вслух сомнение. Но аптекарь заявил, что мог бы сам вылечить этого больного противовоспалительной мазью, и назвал свой адрес:
— Господин Омэ, возле рынка. Все знают.
— Ну, — сказал Ивер, — за все это беспокойство ты нам разыграешь комедию.
Слепой присел на корточки, закинул голову, высунул язык, стал вращать своими гнойными глазами и, обеими руками растирая живот, глухо зарычал, словно голодная собака. Отвращение охватило Эмму; она кинула ему через плечо пятифранковик. То было все ее состояние. Ей казалось прекрасным выбросить его таким образом.
Дилижанс уже покатил дальше, когда господин Омэ вдруг высунулся в окошко и закричал:
— Ни мучного, ни молочного! Носить на теле шерстяное белье и подвергать пораженные участки кожи действию можжевелового дыма!
Вид знакомых предметов, все время чередою бежавших перед глазами, понемногу отвлекал Эмму от ее горя. Невыносимая усталость давила ее, и домой она вернулась в каком-то отупении, без сил, в полудремоте.
«Будь что будет!» — думала она.
Да и кто знает? Разве каждую минуту не может случиться какое-нибудь совершенно необычайное происшествие? Может даже умереть Лере.
В девять часов утра ее разбудил крик на площади: у рынка толпился народ, — все старались прочесть большое объявление, наклеенное на столбе: Жюстен, взобравшись на тумбу, срывал объявление. Но как раз в этот момент его схватил за шиворот сторож. Г-н Омэ вышел из аптеки; в центре толпы стояла и, казалось, разглагольствовала тетушка Лефрансуа.
— Барыня, барыня! — закричала, вбегая, Фелиситэ. — Беда-то какая!
И бедная девушка в волнении протянула ей желтую бумагу, которую только что сняла с двери. Эмма с первого взгляда увидела, что это объявление о распродаже всего их имущества.
Обе молча глядели друг на друга. У барыни и служанки не было друг от друга никаких секретов. Наконец Фелиситэ вздохнула.
— На вашем месте, барыня, я бы пошла к господину Гильомену.
— Ты думаешь?..
Этот вопрос означал: «Ты ведь все знаешь через слугу; разве его хозяин когда-нибудь говорил обо мне?»
— Да, зайдите. Это будет правильно.
Эмма привела туалет в порядок, надела черное платье и шляпу с отделкой из стекляруса; чтобы ее не увидели (на площади все еще было много народу), она пошла задворками по берегу.
Задыхаясь, добралась она до калитки у дома нотариуса; небо было пасмурное, падал редкий снежок.
На звонок вышел Теодор, в красном жилете; он почти фамильярно, как свою знакомую, впустил с крыльца г-жу Бовари и провел ее в столовую.