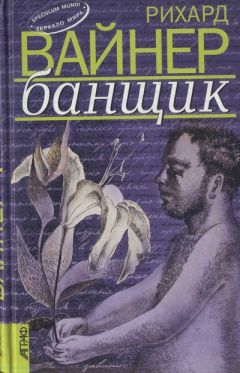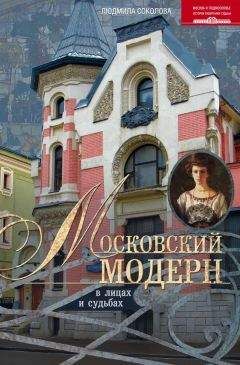Слова «в состоянии полного бодрствования» и «неотвратимо ведет в сон» — это были больше, чем слова, это были слова видимые — они вздыбились, как два плотницких ватерпаса, которые, слишком резко сблизившись, зацепились друг за друга и теперь тщетно пытаются разъединиться, борясь, точно огонь с водой, — причем неизвестно, кто из них гасит, а кто поджигает.
Улыбка девушки угасала. Да, буквально угасала, словно свет, приглушенный густыми облаками пара, за которыми все исчезало. Но из виду ничего не пропадало; было хорошо известно, что оно проваливается в невозвратность хотя бы не навсегда. (Это «в невозвратность хотя бы не навсегда» меня глубоко тронуло.) И тотчас же появилось нечто, постепенно и спокойно ужасающее. Я правильно выразился — именно «постепенно и спокойно», ибо ужас этот наползал медленно, частичка за частичкой, как будто щадя меня; и спокойно, ибо ему чего-то недоставало: он не удивлял. Это был аккуратный, это был вежливый ужас: я понял, что сплю. Я понял, что сплю, то есть я осознал это во сне. Сегодня, когда я пишу эти строки в состоянии полного бодрствования, я понимаю, конечно, что само осознание того, что я сплю, меня не ужаснуло. Нам часто снится, что мы спим. Тут было совсем иное. Я понял, что в мой сон пробирается нечто. Я не знал точно, откуда оно, но у меня было такое чувство, что можно обойтись следующими словами: «Откуда-то с враждебной чужбины». И довольно скоро — впрочем, это всего лишь поэтическая вольность; когда речь идет о сне, «довольно скоро» звучит как ересь, — так вот, довольно скоро я осознал, что это я сам. Именно я: и «нечто» это я, и «откуда-то с враждебной чужбины» — тоже я. Мне виделись будто бы три разноцветных слоя; слово «коктейль» в тот момент не пришло мне в голову; как странно: теперь-то я вижу, что это был именно многослойный коктейль; три слоя, соприкасающиеся между собой двумя пока еще резко отграниченными поверхностями, но в жидкостях уже понемногу подготавливается диффузия; это коктейль из трех эссенций с общей вершиной, однако отстоящих друг от друга настолько, что они кажутся себе различными, как масло, вода и ртуть. Я, который просто спит, я, который сознает, что спит, я, обожествленный и всемогущий, который смиренно взирает на все вокруг, понимая, что достало бы неизмеримо малого движения воли, как для чувствительных весов — небольшой гирьки, чтобы произошло великое колебание: я в глубоком сне либо вновь бы ожил, либо бы рабски покорился бдению, но тем не менее я не делаю ровным счетом ничего, предпочитая созерцать троякое отражение собственного обличия. Я как будто некто, находящийся между параллельными зеркалами, который знает, кто он, но в то же время знает, что точно так же мог бы быть одним из бесконечной цепи образов, из которых он не то чтобы не мог выбрать — нет, он вовсе не хочет что-либо выбирать. Я одновременно и един в трех лицах, и являюсь каждым из них, и я же — то верховное существо, которое создало эту сложность и эту непостижимую простоту.
А теперь — гляньте-ка! — на голубых крыльях сюда устремляется огромная стрекоза; она атакует сумятицу — ибо я ощущаю, что нахожусь посреди сумятицы, и абстракция «сумятица» столь же убедительно и отчетливо конкретна, как все предыдущее, — она атакует сумятицу с такой силой, какой я и не предполагал в ее голубых крыльях, и сумятицу рассекает глубокая гладкая трещина (айсберг, разбитый ломом, который застрял в бесконечности и который вытягивают из противоположной бесконечности). В этой трещине я узнаю… Нет, не узнаю! То, что эта трещина столь непреодолимо внушает, есть призрак уверенности, что еще шажок, еще один неизмеримо малый шажок — и я доверился бы Вечности столь же, сколь я доверяюсь своему умилению при чтении эклог у камина. Если бы я знал — не существовал бы. Мною овладевает отчаяние; нет, я жадно заглатываю его, подобно тому, как распахнутые настежь створки плотины где-то на реке Меконг заглатывают быструю, легкую, беспомощную и не сопротивляющуюся малайскую пирогу. И хотя я знал, что это утроение меня самого, этот неравный поединок сна с его отраженной сублимацией и его материальным осадком, эта смелая попытка конечного объять бесконечное — вещи реальные, однако слишком холодные, чтобы не раствориться в безмерной влаге бытия, куда я вот-вот буду ввергнут; хотя я знал, что от них не останется и следа, что они не помогут ни человечеству в его страданиях, ни моим собственным страхам, что это — всего лишь суета, тем не менее я не сомневаюсь, что я — участник великих событий, и я ликую.
Они записаны, эти события, события ни с чем не сравнимые, записаны неуклюжим школярским почерком. Почерком безыскусным и веселым, точно щебетание детей перед школой, незадолго до начала каникул, когда обсуждаются летние поездки. Почерком несмелым и боязливым, который начинает хромать, когда замечает, что пишущий разгадал тайну его хитросплетений. Почерком, который не выдержал бы ноши своей тайны, не приди ему на помощь его невинность.
Квайде и Бельтрам! Они и впрямь таковы, каковыми провозвещало их смутное трепещущее блистание в гаснущем ореоле над П.С. Квайде — шут: короткие штанишки с зубчатыми краями, белые чулочки, костюмчик Арлекина — и облачко муки, которое поднимается над ним при малейшем движении. Бельтрам, на две головы его выше, — юный чернокнижник или скорее та соединенная из разных частей человеческого тела модель для рисовальщиков, которая так привлекала мое внимание в витрине магазина «Бельский & Ешек». Кто знает и кто когда узнает, как они выбрались из газового платьица белоснежной балерины? И вот вдруг они стоят тут посреди поросшей травой равнины; на горизонте дорога Вьерзон — Тур, окаймленная непрерывной чередой небоскребов (où sont les neiges d’antan?[45]); вдали гудит поезд. Да, это тот самый! Он вез меня в день, когда нельзя было усомниться, хотя и трепещущая крыльями уверенность тоже отсутствовала. Это было в том самом купе второго класса, где я, сорокалетний, бодрствовал над коробом, в котором отдыхали двадцать лет, что никогда уже не истлеют. Квайде и Бельтрам — кондукторы. На полном ходу они проверяют билеты, снуя по ступенькам снаружи вагонов. Год сейчас 1891. Станция — это восьмистенный дом. В плане он прост настолько, насколько может быть прост дом о восьми стенах, но внутренность его не менее сложна, чем закулисье любительских театров, закулисье, в котором актеры, уйдя со сцены, терялись, точно в лабиринте.
Квайде, шут! Бельтрам, примерный ученик! Это ваш родной дом. Ваша мать, вдова, продает билеты и владеет магазином со всякой всячиной. Дом полон братишек и сестренок. Куда ни глянешь, повсюду мелькают косички или рубашонки. И опять они пропали. Я ищу, ищу их: о, таинственное закулисье провинциального любительского театра.
Однако пора ехать. Я покупаю билет до Исландии. Кто-то тянет меня за полу. Наконец-то попался! Я знаю, что это значит.
Это значит — отправиться с тобой в лавочку и опоздать на поезд. Следующий будет еще не скоро. И вот мы идем; я знаю, что до места недалеко, но мы как будто никогда туда не доберемся. Мы идем как бы сквозь шпалеры человеческой сущности; они подвижные и колышущиеся, но нигде ни души. Тишина! А лавочка — точь-в-точь как все лавочки в обеденный перерыв; дверную ручку сняли. Я никогда бы не поверил, что отсутствие дверной ручки может так на меня подействовать. Нас ожидает склад стеклянных пожарных касок с бронзовой патиной. Какое это трудное и светлое слово — «ожидает»! Квайде — ибо со мною Квайде — захотел одну из них.
«Есть здесь кто-нибудь?» — Ни звука. Каска, что лежала на самом верху, упала. Она сама наделась Квайде на голову. Она его не поранила. Но где же Квайде?
Восьмистенный дом со скрипом закрылся. Теперь я знаю, что это было: этакий роскошный ящичек для сигар, в виде садовой беседки, подобные ящички запираются на какой-то тайный замочек, в то время как скрытый механизм играет нежную песенку. И впрямь: послушай-ка!
Закулисье провинциального любительского театра… «Квайде! Где ты, Квайде?» — Ничего. — «Бельтрам? Бельтрам!» — Только музыка. Феи, убегающие по клавишам крохотного металлического пианино.
«Мама, мама! Мамочка моя золотая, где ты? Это же ты продала мне билет до Исландии. Это была ты! Ты!»
И в окне, большом-большом окне, я вижу: Мальме! Университетский город, который уступил всю славу Упсале, так к этому стремившейся. Я сижу на краю зубчатой башни упсальского замка, я прекрасен, я вечно юный бог. Вдали сияют огнями окна кафе «У двух обезьян». За столиком в окружении маленьких елочек — я, безобразный и дряхлеющий. Я узнал его. Кто кого одолеет? Я в Упсале ликую, я «У двух обезьян» — старею. Кто кого одолеет? Сияние. Оно повсюду. Сияют следы Квайде, Бельтрама, сияет лицо, которое склонится надо мной, когда морщинистое любопытство погонит меня прочь из замка сновидений, кожица которого уже покрылась белым налетом, точно сентябрьская слива.