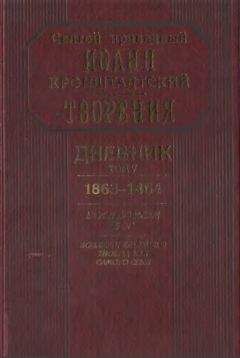— Есть у него и седьмое. Картины. Разве он не водил вас в музей. Так с ним всегда расплачиваются за обед.
— Да, мы видели Сезанна, Ван Гога, Мане, Ренуара и Дега, — ответила Рут.
— Ага! Импрессионисты! Значит, он действительно кормил вас обедом. После ужина он тащит к Рембрандту, Гойе и Греко. Ну, а теперь, ребятки, одевайтесь, живо! Рестораны Парижа ярко освещены и ждут нас!
— Мы как раз…
— Это я уже вижу, — недовольно перебил Штайнер. — Немедленно одевайтесь! Я плаваю в деньгах.
— Мы уже одеты…
— Ах, вот оно что! Пальто уже успели продать какому-нибудь товарищу по вере, который наверняка вас облапошил.
— Не облапошил… — сказала Рут.
— Бесчестные евреи тоже существуют, девочка, — ответил Штайнер. — Каким бы святым мне ни казался сейчас ваш народ-мученик. Ну, пошли!
— А теперь рассказывайте, как ваши дела? — спросил Штайнер после еды.
— Мы словно в заколдованном кругу, — ответил Керн. — Париж — это не только город туалетной воды, мыла и духов; это также и город английских булавок, шнурков, пуговиц и, кажется, даже портретов святых. Торговля здесь полностью исключается. Я перепробовал тысячи вещей — мыл посуду, таскал корзины с овощами, переписывал адреса, торговал игрушками, но не разбогател на этом. Все это было работой по случаю. Рут две недели проработала уборщицей в одной фирме, а потом эта фирма вылетела в трубу, и ей вообще ничего не заплатили. За джемпер из кашмирской шерсти ей предложили такую сумму, которой ей как раз хватило, чтобы снова купить шерсть. Поэтому… — Керн расстегнул свою куртку. — Поэтому я одет, как богатый американец. В джемпере чувствуешь себя чудесно, если у тебя нет пальто. Она и тебе сможет связать джемпер, Штайнер…
— У меня хватит шерсти еще на один, — подтвердила Рут. — Но только шерсть темная. Вы любите темный цвет, Штайнер?
— Еще бы! Мы же живем в темноте. — Штайнер закурил сигарету. — Ладно, я подумаю… Вы заложили свои пальто или продали?
— Сперва заложили, потом продали.
— Так я и предполагал. Обычное явление. Вы уже были когда-нибудь в кафе «Морис»?
— Нет, только в «Эльзасе».
— Чудесно! Тогда пойдемте в «Морис». Там есть некто Дикман. Он знает обо всем. И о пальто — тоже. И о всемирной выставке, которая состоится в этом году.
— О всемирной выставке?
— Да, мальчик, — ответил Штайнер. — Ведь на выставке должна найтись работа. И документы там не будут спрашивать так строго.
— Откровенно говоря, когда ты приехал в Париж, Штайнер? Ведь ты уже обо всем прекрасно информирован.
— Четыре дня тому назад. А до этого был в Штрассбурге. Должен был закончить там кое-какие дела. А вас нашел через Классмана. Встретился с ним в префектуре. У меня есть паспорт, ребятки. И через несколько дней я перееду в отель «Интернасьональ». Мне нравится это название.
Кафе «Морис» было похоже на кафе «Шперлер» в Вене и кафе «Грейф» в Швейцарии. Это была типичная биржа эмигрантов. Штайнер заказал кофе для Рут и Керна, а потом подошел к одному пожилому человеку. Некоторое время они разговаривали друг с другом. Потом человек внимательно посмотрел на Рут и Керна и ушел.
— Это Дикман, — объяснил Штайнер. — Он знает обо всем. Всемирная выставка действительно будет, Керн. Сейчас уже строятся заграничные павильоны. Строительство оплачивают иностранные правительства. Частично они привозят своих рабочих, но для самых простых работ — земляных и так далее — они нанимают людей здесь. Вот тут-то для нас и откроются большие возможности. Так как деньги выплачиваются иностранным комитетом, французы мало беспокоятся о том, кто там работает. Завтра утром мы отправимся туда. Там уже работает кое-кто из эмигрантов. Мы дешевле французов, и в этом наше преимущество.
Вернулся Дикман. На руке он нес два пальто.
— Думаю, что они подойдут.
— Примерь-ка! — сказал Штайнер Керну. — Сперва ты, а потом Рут. Сопротивление бесполезно.
Пальто оказались впору. На женском пальто был даже маленький потертый меховой воротничок. Дикман слабо улыбнулся.
— Выбрал на глаз, — сказал он.
— Это лучшее, что ты можешь предложить из своего хлама, Генрих? — спросил Штайнер.
Дикман взглянул на него немного обиженно.
— Пальто хорошие. Конечно, не новые. Вот это, с меховым воротником, раньше носила графиня. Разумеется, из эмигрантов, — добавил он, заметив взгляд Штайнера. — Воротник енотовый, не то что там какой-нибудь кролик, Йозеф!
— Хорошо. Мы их возьмем. Завтра я еще зайду, и мы поговорим.
— Не обязательно. Ты можешь взять их и так… У нас же свои счеты.
— Чепуха!
— Нет, не чепуха. Возьми их и забудь об этом. Тогда я здорово сел в лужу, черт возьми!
— Ну, а как вообще идут дела? — спросил Штайнер.
Дикман пожал плечами.
— На себя и детей хватает. Но противно жить в постоянных конвульсиях.
Штайнер рассмеялся.
— Только не становись сентиментальным, Генрих! Я — шулер, бродяга, я занимаюсь подделкой документов, за мной числится нанесение увечий, сопротивление государственной власти и еще всякая всячина — и тем не менее совесть моя чиста.
Дикман кивнул.
— Мой меньшой заболел. Грипп. Высокая температура. Но высокая температура для детей не опасна, правда?
Он с надеждой посмотрел на Штайнера. Тот кивнул головой.
— Малыши быстро встают на ноги, Генрих. Можешь не опасаться.
— Сегодня я пойду домой немного раньше.
Штайнер заказал себе порцию коньяку.
— А тебе взять, мальчик? — спросил он у Керна.
— Послушай, Штайнер… — начал Керн.
Тот сразу же замахал рукой.
— Не говори ничего. Это — рождественские подарки, и они мне ничего не стоят. Вы же сами видели… Порцию коньяку, Рут? Будете?
— Да.
— Новые пальто! В перспективе — работа! — Керн выпил коньяк. — Жизнь снова нам улыбается!
— Не обманывайся! — усмехнулся Штайнер. — Позднее, когда ты вдосталь наработаешься, это время — время вынужденного безделья — будет казаться тебе самым чудесным временем в твоей жизни. И ты будешь рассказывать своим внукам удивительные истории, внукам, сидящим у дедушкиных ног. И история эти будут начинаться так: «давным-давно, когда дедушка жил в Париже…»
Мимо них прошел Дикман. Он устало махнул им на прощание рукой и направился к выходу.
— Занимал когда-то пост бургомистра, был социал-демократом. — Штайнер посмотрел ему вслед. — Имеет пятерых детей, а жена умерла. Чудесный нищий. С достоинством. И обо всем знает… Правда, немного сентиментален, как это часто бывает у социал-демократов. Поэтому и политики они плохие.
Кафе стало заполняться посетителями. Появились люди, ночующие в кафе, чтобы занять угловые места на ночь. Штайнер выпил коньяк.
— Здешний хозяин великолепен — пускает всех спать, кто подыщет себе место. Бесплатно. Или буквально за гроши. Если бы в Париже не было таких вот ночлежек, многим пришлось бы очень тяжело.
Он поднялся.
— Ну, пойдемте, ребятки!
Они вышли из кафе. На улице было холодно и ветрено. Рут подняла енотовый воротник своего пальто и крепко прижала его руками. Потом с улыбкой посмотрела на Штайнера. Тот кивнул.
— Тепло, малютка Рут? В мире ведь все зависит от капельки тепла.
Он поманил старую цветочницу, которая брела мимо. Та сразу поспешила им навстречу мелкими шажками.
— Фиалки, — прокаркала она. — Свежие фиалки с Ривьеры.
— Какой город! Фиалки посреди улицы, в декабре! — Штайнер купил букетик и протянул его Рут.
— Бесполезное фиолетовое счастье! Но душу согревает. — Он подмигнул Керну, — Еще один жизненный урок, как сказал бы Марилл.
Они сидели в столовой всемирной выставки. В этот день им выдали жалованье. Керн разложил тонкие бумажные деньги вокруг своей тарелки.
— Двести семьдесят франков! — мечтательно произнес он. — И заработаны всего за неделю. Третий раз я уже получаю жалованье! Прямо сказка какая-то!
Мгновение Марилл с улыбкой смотрел на него. Потом поднял рюмку и повернулся к Штайнеру.
— Давайте выпьем по глотку дряни за эти бумажки, дорогой Губер! Удивительно, какая власть у них над человеком. Наши предки в древние века испытывали страх от грома и молнии, боялись тигров и землетрясений; средневековые отцы — вооруженных воинов, эпидемии и господа бога, а мы испытываем дрожь от печатной бумаги — будь то деньги или паспорт. Неандертальцев убивали дубинками, римлян — мечом, средневекового человека — чумой, а с нами можно расправиться с помощью жалкого клочка бумаги.
— Но эти клочки бумаги могут также возвратить человека к жизни, — добавил Керн и посмотрел на банкноты французского банка, лежавшие вокруг его тарелки.
Марилл покосился на Штайнера.
— Что ты скажешь об этом ребенке? Растет, правда?