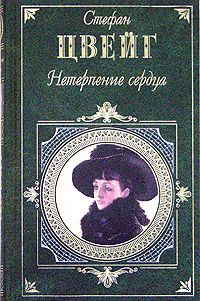— Не надо, не стыдитесь! Я, как никто другой, понимаю, что можно бояться людей, когда твое поведение не укладывается в их понятия. Вы видели мою жену. Никто не понимал, почему я женился на ней, а все, что выходит за рамки узкого и, так сказать, нормального кругозора обывателей, делает их сначала любопытными, а потом злыми. Мои уважаемые коллеги незамедлительно начали перешептываться, что я, дескать, допустил ошибку и женился с перепугу, мои так называемые друзья тоже не отставали и распустили слух, что она богата или ожидает наследства. Моя мать, моя собственная мать, два года отказывалась принимать ее потому, что уже имела на примете другую партию, дочь университетского профессора, знаменитого в то время терапевта; если б я женился на ней, то был бы через три недели доцентом, потом профессором и всю жизнь катался бы как сыр в масле. Но я знал, что эта женщина погибнет, если я брошу ее на произвол судьбы. Она верила только в меня, отними я у нее эту веру — ей нечем было бы жить. Признаюсь нам откровенно, я не раскаиваюсь в своем выборе. Дело в том, что у врача, именно потому, что он врач, совесть редко бывает чиста. Мы знаем, как мало нам удается помочь на самом деле. Разве одному справиться со стихией повседневных бедствий? Но каплям, наперстком черпаем мы из этого бездонного моря, и те, кого мы сегодня считаем исцеленными, завтра опять приходят к нам с новыми недугами. Тебя никогда не покидает чувство, что ты был слишком небрежен, слишком медлителен, и вдобавок еще промахи, ошибки, неизбежные в каждом ремесле; а тут, по крайней мере, остается утешение, что хотя бы одного человека ты спас, одно доверие не обманул, одно дело сделал так, как надо. В конце концов, человек должен знать, была ли его жизнь напрасной, или он жил ради чего-то. Поверьте мне, — и я вдруг услышал в его голосе теплоту, почти нежность, — все-таки стоит обременить себя тяжкой ношей, если другому от этого станет легче.
Его глубокий, проникновенный голос тронул меня. Внезапно я ощутил в груди слабое жжение, то хорошо знакомое мне чувство, когда сердце точно переполнилось, и я почувствовал, как воспоминание об отчаянном одиночестве несчастной девушки вновь пробуждает во мне сострадание. Я знал: еще минута — и на меня хлынет тот бурный поток, устоять против которого я не в силах. «Нет, не уступать! — сказал я себе. — Ты уже выпутался, не позволяй опять втягивать себя в эту историю». И я решительно взглянул на Кондора.
— Господин доктор, каждый знает предел своих сил хотя бы приблизительно. Поэтому я обязан предупредить вас: пожалуйста, не рассчитывайте на меня! Теперь вы, а не я должны помочь Эдит. Я и так зашел уже гораздо дальше, чем собирался вначале, и честно говорю вам: я вовсе не такой благородный и самоотверженный, как вы думаете. Мои силы на исходе! Я больше не могу выносить, чтобы на меня молились, да еще делать вид, что мне это приятно. Лучше ей все объяснить сейчас, чем разочаровывать потом. Даю вам честное слово солдата, что мое предупреждение искренне: не рассчитывайте на меня, не переоценивайте меня!
Должно быть, я говорил очень твердо, потому что Кондор озадаченно посмотрел на меня.
— Это звучит так, словно вы уже решились на какой-то шаг. — Вдруг он поднялся. — Пожалуйста, всю правду, без недомолвок! Вы уже сделали что-то… чего нельзя изменить?
— Да, — сказал я, в свою очередь вставая с места и вынимая из кармана прошение об отставке. — Вот. Прошу вас, прочтите сами.
Кондор неуверенно взял листок и, бросив на меня встревоженный взгляд, отошел к письменному столу, где горела лампа. Потом тщательно сложил бумагу и обратился ко мне совершенно спокойным, деловым тоном, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся:
— Я считаю, что после всего сказанного мною сегодня вы полностью отдаете себе отчет в последствиях: мы только что пришли к выводу, что ваше бегство равносильно убийству бедной девочки, убийству или самоубийству… Поэтому вам, я полагаю, абсолютно ясно, что этот лист бумаги является не только вашим прошением об отставке, но и… смертным приговором Эдит.
Я не ответил.
— Я задал вам вопрос, господин лейтенант! И я повторяю его: отдаете ли вы себе отчет в последствиях? Берете ли вы на себя ответственность?
Я опять промолчал. Он подошел и протянул мне сложенный листок.
— Благодарю! Я не желаю иметь ничего общего с этим. Возьмите!
По рука моя висела, как парализованная. У меня не было мужества выдержать его испытующий взгляд.
— Следовательно, вы не намерены давать ход этому… этому смертному приговору?
Я отвернулся и спрятал руки за спину. Он понял.
— Итак, я могу порвать это?
— Да, прошу вас.
Я услышал резкий звук разрываемой бумаги — раз, два, три — и шелест обрывков, падавших в корзину. Как это ни странно, но я вдруг почувствовал облегчение. Опять — уже во второй раз за этот роковой день — решалась моя судьба. Решалась без моего участия.
Кондор подошел и, мягко положив мне руку на плечо, снова усадил в кресло.
— Ну вот, я думаю, что сейчас мы предотвратили большое несчастье… очень большое несчастье. А теперь к делу! Как бы там ни было, но благодаря этому случаю я получил возможность до некоторой степени узнать вас… Нет, не спорьте. Я не переоцениваю вас, я не согласен с Кекешфальвой, который восхваляет вас как необыкновенного доброго человека, напротив, для меня вы, с вашими неустойчивыми чувствами, с вашим каким-то особенным нетерпением сердца, весьма ненадежный партнер; и как бы ни радовался я тому, что предотвратил вашу безумную выходку, мне ни в коей мере не может импонировать поспешность, с какой вы принимаете решения и тут же отказываетесь от своих замыслов. На людей, чьи поступки до такой степени зависят от настроения, нельзя возлагать никакой серьезной ответственности. Если бы мне понадобилось поручить кому-нибудь дело, требующее терпения и упорства, вас я выбрал бы в последнюю очередь. Так вот, слушайте! Я хочу от вас немногого. Только самого необходимого, без чего никак нельзя обойтись. Ведь вы уговорили Эдит начать этот новый курс — вернее, курс, который она считает новым. Ради вас она решилась уехать, уехать на несколько месяцев, и, как вы знаете, до отъезда осталось восемь дней. Ну так вот, в эти восемь дней мне потребуется ваша помощь, и, чтобы облегчить вам задачу, скажу сразу: через восемь дней все кончится. Мне ничего от вас не нужно, кроме обещания, что за неделю, которая остается до отъезда, вы не сделаете ничего опрометчивого, ничего неожиданного и прежде всего ни словом, ни жестом не выдадите своего страха перед нежным чувством бедной девочки. Пока я больше ничего не хочу от вас, я думаю, это самое меньшее, чего можно потребовать: восемь дней самообладания, когда на карту поставлена жизнь другого человека.
— Да… но потом?
— Пока не будем думать об этом. Когда я удаляю опухоль, то не спрашиваю, не появится ли она вновь через несколько месяцев. Когда меня зовут на помощь, я должен действовать не колеблясь. В жизни это всегда самое правильное, потому что самое человечное. Все остальное — воля случая, или, как сказал бы верующий, воля божья. За несколько месяцев может произойти все что угодно! Может быть, улучшение действительно наступит скорее, чем я ожидаю, может быть, в разлуке ее страсть угаснет — я не могу заранее предусмотреть все возможности, а вам это и подавно ни к чему! Сосредоточьте все ваши силы только на одном — пусть она в эти решающие дни не почувствует, что ее любовь так… так пугает вас. Все время говорите себе: восемь дней, семь дней, шесть дней — и я спасу человека, не оскорблю, не разочарую, не обижу его, не отниму у пего последнюю надежду. Восемь дней мужественного поведения — вы действительно считаете, что это вам не под силу?
— Напротив! — вырвалось у меня. И я добавил еще убежденнее: — Я выдержу! — Едва услышал об определенном сроке, в меня словно влились новые силы.
Кондор глубоко вздохнул.
— Слава богу! Теперь я могу признаться вам, что был сильно встревожен. Поверьте, Эдит не пережила бы, если в ответ на ее письмо, на ее признание вы бы попросту удрали. Потому-то ближайшие несколько дней — самые решающие. Все остальное уладится потом. А сейчас позволим бедной девочке немного побыть счастливой — подарим ей восемь дней безмятежного счастья; ведь за одну эту неделю вы ручаетесь, не так ли?
Вместо ответа я протянул ему руку.
— Ну-с, теперь я думаю, все в порядке, и мы можем присоединиться к моей жене.
Но он продолжал сидеть. Я почувствовал, что в нем зародилось какое-то сомнение.
— Еще одно, — негромко сказал он. — Нам, врачам, всегда приходится иметь в виду непредвиденные обстоятельства, мы должны быть готовы ко всяким случайностям. Если, не дай бог, хотя это маловероятно, что-нибудь случится… я хочу сказать, если силы покинут вас или подозрительная недоверчивость Эдит приведет к какому-нибудь кризису — немедленно поставьте меня в известность. Ничего непоправимого не должно произойти за этот срок, короткий, но решающий. Если вы почувствуете, что не можете справиться со своей задачей, или непроизвольно выдадите себя — не стыдитесь, ради бога, не стыдитесь меня, я видел достаточно обнаженных людей и надломленных душ! Вы можете прийти или позвонить мне в любое время дня и ночи, я всегда готов помочь вам — я знаю, что поставлено на карту. А сейчас, — кресло, стоявшее рядом с моим, сдвинулось, и Кондор поднялся, — переберемся лучше туда. Наш разговор немного затянулся, а мою жену легко разволновать. Прошли годы, но я должен все время быть начеку, чтобы не тревожить ее. Кого однажды жестоко ранила судьба, тот навсегда остается ранимым.