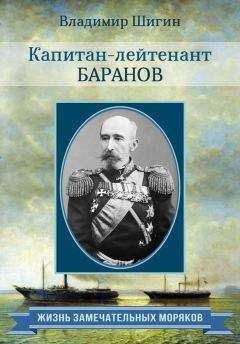Долго обсуждали событие с выряженками. Черта все еще не могли определить ни Мишка, ни сама Дуня. Устинья пришла из хлева, она ходила давать корове сена. Пришла и сказала:
— А вот кто был чертом-то, этот ряженый — сам Кочерягин!
— Полно.
— Чево «полно»! У ево кожаный ремешок из кармана выскочил.
— Полно, мамка, пойдет ли миличия выряженкой? — не согласилась Дуня.
— А кто эдак перед попом-то выделывался? Я его только по пляске и узнала, да по ремешку от нагана — и стала приглядываться. Этот черт попа за бороду дернул. И по жопе похлопал. Пинжак-то он закинул, я и вижу, ремешок выскочил. Он этот ремешок обратно в карман запихнул. Уж не знаю, был ли при ем револьверт али наган и заряжен ли он. И задницу эдак назад оттягивает, когда пляшет, точь-в-точь Кочерягин. Кочерягинскую-то пляску я видала в Тифенскую.
Мишке хотелось тоже на улицу, чтобы еще поглядеть ряженых. Но Дуня выставила блюдо бараньего студню, чтобы хлебать с квасом. Мишка первый обнаружил в блюде две мелкие овечьи бабки и выловил их. Эти козонки удержали Мишку дома. Пришла домой Манька. Долго она докладывала, как попу большие ребята подпалили кудельную бороду, как поп завизжал со страха. Счетоводка Лея будто бы вместе с чертом ушла в контору. Остальные еще по домам ходили, но без гармоньи.
Бабушка Устинья улезла на печь. Дуня Ротиха, обряжая овец и корову, переговаривалась с Устиньей насчет тех баб, которые получили извещенья.
— А Нинка-то Демкина, старухи бают, немного и поревела. Того и гляди, еще замуж выскочит, — сказала бабушка.
— Полно-ко, мамка, какой тут замуж, когда два детеныша на руках. Кому нужна вдова-то? Однем заготовителям. Ключ потерян, дак и замок никому не нужон.
Устинья захрапела. Мишка сам зажег лампу и взялся за книжку. Занятная была книжка «Ташкент — город хлебный»! Написано, как один Мишкин тезка без билета ездил за хлебом в Ташкент. На самой интересной странице — когда проверяли ночью билеты — пришлось остановить чтение, так как прибежала Манькина подружка с запиской из колхозной конторы. Милиционер Коче-рягин вызывал Мишку на допросы.
— А не ходи, да и все! — заявила Дуня. — Мало ли что он миличия.
Дуня Ротиха опять заругалась.
Мишка в контору не пошел, но всю ночь спал как на иголках. И он, и бабка Устинья с Манькой думали по-другому. Большинство было за то, чтобы Мишке идти в контору. Утром Мишку вызвали снова. Записку принесла сама счетоводка.
После картофельного завтрака Мишка надел шапку. Валенки оказались уже сухие. Тятин шарф висел на гвоздике рядом с шубой. Глядя на Мишкины сборы, девчонки оставили своих кумок.
Кочерягин сидел на широкой конторской лавке. Напротив его на табуретке сидел председатель колхоза. Лея подшивала бумаги. Они замолчали, когда Мишка вошел в конторские двери.
— Так! — произнес Беспалый. — Явился, значит? Давай рассказывай, почему приехал в такой мороз? Мишка молчал.
— Чего с ним говорить! — сказал Кочерягин, запечатывая в конверт какую-то бумагу. — Говорить будем с маткой.
Милиционер вдруг закричал:
— Ты почему сбежал с лесного фронта?
— Я. я. не убегал. — Мишка всхлипнул. — У меня валенки дыроватые стали.
— Вот! Требуется доставить в сельсовет эти данные! — И Кочерягин подал Мишке запечатанный конверт. А Беспалый добавил:
— Лошади не получишь, снесешь на своих двоих! Может, научишься после этого лошадей-то поить и упряжь складывать где положено!
Дома Мишка стремглав заменил дыроватые валенки на материны и вскоре скрипел по снегу этими валенками, пыхтя по дороге в Таволгу. Пакет с конторскими данными лежал во внутреннем кармане пиджачишка.
До сельсовета, то есть до Таволги, километров семь. На лошади бы всего ничего. А вот пешком-то потопаешь часа полтора. Мать наказала, чтобы особо нигде не останавливался: ни в школе, ни в медпункте, ни в лавке. Шел бы с данными прямо в сельсовет и чтобы оттуда прямо домой. Ей, матери-то, без валенок и сена корове не надавать, а Мишкины, с дыркой, валенки надо как следует просушить, потом только ставить заплату. К сырым подошвам ставить заплату — пустое дело. Еще и дратву надо! Дратву умел делать один Мишка, научен еще отцом. Все балябинцы дратву умели делать, были бы холщовые нитки с варом. Вар из дегтя тятя варил еще до войны. Берег Мишка этот вар, залитый в кожаной складке, никому не давал, одному Володьке, у которого лопнул на гармонье ремень и пришлось Володьке сшивать. Гармонь есть гармонь, даже старой бы шлеи нисколько не жаль. Но шлею портить не пришлось, Володька сшил старый ремень. Вон как вчера играла! Хотя Мишка играл не хуже Володьки. Был бы тятя дома, он бы уж купил Мишке гармошку, хотя бы старую чью-нибудь, не обязательно новую, магазинную. Теперь вот жди, когда война кончится!
За такими раздумьями не заметил, как пришел в Таволгу. Председатель в сельском совете новый теперь, хромой. Он только что пришел из госпиталя, и его сразу поставили в председатели. Он взял у Мишки колхозные данные. Распечатал конверт и прочитал. Лицо его дернулось. (Вот что писал председателю сельсовета милиционер Кочерягин: «Подателя сего Лаврухина Михаила требую немедленно арестовать, отправить в район как убежавшего от государственного задания леса. К сему Кочерягин».)
— А ты с какого года? — спросил хромой председатель. — В которой сейчас группе?
Мишка сказал, что учится в седьмом классе. Председатель присвистнул. И долго как-то странно глядел на парня. Произнес:
— Ничего себе! Ну-к, беги в школу к директору. Да вот он, кажется, сам правится в сельсовет. На помин как сноп на овин. У вас чего, нынче каникулы?
Мишка голосом поздоровался с вошедшим директором семилетней Таволжской школы. Тот поглядел на Мишку:
— А ты почему учиться не ходишь? У тебя две двойки за полугодие.
Директор был давний, но тоже весь раненый, отпущен из армии насовсем еще в прошлом году.
— Слыхал новость, Петро Григорьевич? — спросил председатель директора. — Звонили из району, вчерась вышел указ Калинина о введении погонов!
— Ничего себе! Не пуля? — Директор даже поднялся со стула.
— Нет, правда, на днях указ будет в газете. А ты, Миша, можешь идти в школу, исправляй свои двойки.
— Как бы еще больше не накопил! — засмеялся директор.
Председатель сельсовета вдруг изменился в лице:
— Нет, Миша, постой. Ты Лаврухин? И мать у тебя Лавру-хина?
Мишка кивнул.
— Снеси-ка матери вот эти данные. — И подал Мишке какую-то бумажку в открытом конверте.
И директор школы отпустил Мишку домой:
— Не пропускай, Лаврухин! Не делай прогулов.
— Эх, да какие там у него прогулы, — крякнул председатель сельсовета. — Парень на лесопункт ездил. Там он кубатуру гонил.
Мишка с гордостью выскочил на улицу. Не заходя в школу и медпункт, заспешил домой. В перелеске на середине дороги он ощупал «данные», посланные сельским советом: «Интересно, какие это еще данные? Может, квитанции по налогу? Или по самообложению? Надо поглядеть.».
Мишка Лаврухин выволок из кармана пиджачишка сельсоветские данные. Прочитал: «Лаврухиной Авдотье Ивановне. Сообщаем вам, что ваш муж Лаврухин Дмитрий Михайлович, проявив мужество при выполнении боевого задания, погиб в бою 18 ноября 42 года».
У Мишки потемнело в глазах. Он еще раз прочитал бумагу. «Тятя!» — в ужасе крикнул Мишка и побежал по дороге. Он бежал, словно куда-то не успевал, словно от этой спешки зависело все на земле. Больше он ничего не запомнил, он рыдал, размазывая по лицу слезы и сопли, крещенский мороз прихватывал эти горячие слезы, глушил горькие Мишкины всхлипы. Никто не услышал эти всхлипы отчаяния. Услышали одни придорожные ольхи, убранные седым инеем, да еще белые от снега березы, да темные елочки, что прятались под березами. Да еще ворона, сидящая на стожке.
Был праздник — Заговенье на Петров пост. Коч в новой, еще ленинградской рубахе правился на свое суточное дежурство. За деревней, изрытые гусеницами, искорененные вкривь и вкось луга обросли с весны зеленой травой. Теперь все было желто от едкого лютика. А где не желто, там сплошь белел высокий несъедобный морковник. Где они, нынешние полевые цветочки? Где он, дикий кремовый клеверок, овеянный медовым запахом? Есть, есть, да мало. Вот и косить уже стало негде. Золотые купавки уже отцветали, явились в траве метелочки лилово-розовых диких гвоздик и бордовые с желтым нутром колокольцы.
Коч ступал по своей тропе в сторону фермы и вспоминал старые песни:
Ой, милашка, вымой ножки,
Надевай полусапожки,
Еще белые чулки,
Пойдем гулять за ручейки.
Теперь Коч не стыдился своей поздней женитьбы. Никто больше не спрашивал про «первую ночку», никто не дразнил и «отступлением» из Ленинграда. Некому стало корить Коча Ленинградом! Сосед Лещов давно умер, не стало и Валентина, веселого тракториста. Да ведь и самого Ленинграда нынче нет: переделан в Санкт-Петербург. Не с первого раза и выговоришь.