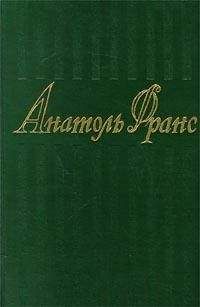Катрина, отличавшаяся большей сдержанностью манер, внушала мне непобедимую робость, и я не осмеливался сказать ей, что нахожу ее очаровательной. Особенно же усиливало мое смущение то, что она беспрерывно высмеивала меня и не упускала случая, чтобы меня поддразнить. Чаще всего она шутила по поводу моего еще безволосого подбородка, отчего я краснел и готов был сквозь землю провалиться. Заметив ее, я напускал на себя мрачный и грустный вид. Я притворялся, будто пренебрегаю ею. Но слишком была она хороша, чтобы я действительно мог ею пренебречь.
* * *
В ту ночь, в ночь девятнадцатой годовщины моего рождения и крещенский сочельник, когда с неба сыпался мокрый снег и в промозглой сырости под порывами леденящего ветра скрежетала вывеска нашей «Королевы Гусиные Лапы», — яркий огонь, благоухавший гусиным салом, озарял нашу харчевню, и миска с дымящимся супом уже красовалась на белоснежной скатерти, покрывавшей стол, вкруг которого сидели г-н Жером Куаньяр, мой батюшка и я. Следуя установленному обычаю, матушка стояла за стулом хозяина дома, готовая служить ему. Батюшка уже налил полную тарелку аббату, как вдруг дверь распахнулась и пред нами предстал брат Ангел с белым как мел лицом и багровым носом; с бороды его ручьями стекала вода. От удивления батюшка так взмахнул разливательной ложкой, что чуть было не задел закопченных балок потолка.
Удивление батюшки было вполне объяснимо. После первого своего исчезновения, длившегося полгода, вследствие драки с колченогим ножовщиком, брат Ангел на сей раз целых два года не давал о себе знать. В один весенний день он исчез из города вместе с ослом, нагруженным священными реликвиями, и, что много хуже, вместе с Катриной-кружевницей в монашеском одеянии. Никто не знал, что с ними сталось, однако в «Малютке Бахусе» прошел слух, что братец и сестрица имели неприятности с духовным судьей где-то меж Туром и Орлеаном. Уж не говоря о том, что викарий обители св. Бенедикта вопил как оглашенный, что этот мерзопакостник-капуцин похитил у него осла.
— Смотрите-ка, — воскликнул батюшка, — оказывается, этого мошенника не засадили в подземелье. Видно, нет больше справедливости в нашем королевстве.
Но брат Ангел прочел Benedicite[113] и осенил крестным знамением суповую миску.
— Ну-ну! — продолжал батюшка. — Хватит юродствовать, честной чернец. И признайтесь лучше, что из двух лет, в течение коих мы не имели счастья лицезреть у себя вашу сатанинскую харю, вы никак не меньше года провели в церковном узилище. На улице святого Иакова одним жуликом стало меньше, а околотку прибавилось уважения. Эх, жарить бы на вертеле таких бахвалов, которые уводят ослов у ближнего своего и девиц, принадлежащих всему приходу.
— Я догадываюсь, — ответил брат Ангел, опустив глаза и пряча руки в обшлага рясы, — я догадываюсь, мэтр Леонар, что вы имеете в виду Катрину, которую мне посчастливилось обратить к истине, указать ей путь к лучшей жизни; я так преуспел в выполнении своей задачи, что она возжелала следовать за мной со священными реликвиями и совершить благочестивое паломничество к черной Шартрской богоматери. Я согласился на ее общество лишь при том условии, что она облачится в монашеское одеяние. Что она и совершила безропотно.
— Замолчите вы, распутник этакой, — прервал его батюшка. — Вы не уважаете свою рясу. Убирайтесь туда, откуда пришли, и посмотрите-ка, сделайте милость, снаружи, нет ли сосулек под крышей «Королевы Гусиные Лапы».
Но матушка знаком пригласила брата Ангела присесть у очажного колпака, что тот и сделал, стараясь не шуметь.
— Надобно прощать капуцинам, — заметил аббат, — ибо грешат они в простоте душевной.
Батюшка попросил г-на Куаньяра не говорить более об этом отродье, так как даже при одном упоминании о капуцинах вся кровь бросается ему в голову.
— Мэтр Леонар, — сказал аббат, — философия смягчает душу. Скажу о себе, я охотно отпускаю грехи жуликам, мошенникам и всем отверженным. Более того, я не питаю злобы и к людям состоятельным, хотя они слишком заносчивы. И если бы вы, мэтр Леонар, подобно мне вращались среди знатных особ, вы знали бы, что они не лучше всех прочих и что общение с ними подчас не так уж приятно. В трапезной епископа Сеэзского мне было отведено место за третьим столом, и за моим стулом стояли двое слуг в черных ливреях: Церемонность и Скука.
— Скажем прямо, у слуг его высокопреподобия были диковинные имена, — вмешалась матушка. — Почему бы по обычаю было не назвать их Шампанем, Оливком или Рокфором!
— Правда, — продолжал аббат, — иные особы без труда применяются к тем неудобствам, какие испытываешь в кругу вельмож. За вторым столом епископа Сеэзского сидел некий каноник, человек редчайшей учтивости, который до последнего своего вздоха соблюдал все церемонии. Узнав, что часы каноника сочтены, его преосвященство пожелал навестить больного и, поднявшись в его комнату, увидел, что тот отходит. «Прошу прощения, ваше преосвященство, за то, что вынужден умереть перед вами», — прошептал каноник. «Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь!» — благосклонно ответствовал епископ.
В эту минуту матушка принесла жаркое и водрузила блюдо на стол движением, исполненным такой хозяйской степенности, что батюшка, видимо, умилился душой, ибо неожиданно для всех воскликнул с набитым ртом:
— Барб, вы святая и достойная женщина!
— И впрямь, — подхватил мой добрый учитель, — нашу хозяюшку не грех уподобить тем достойным женщинам, о коих повествует Священное писание. Это жена пред господом.
— Благодарение богу! — отвечала матушка. — Я ни разу не преступила обета верности, в которой поклялась Леонару Менетрие, своему супругу, и, надеюсь, не осрамлюсь до конца дней моих, раз самое опасное уже позади. Хотелось бы, чтобы и он хранил мне верность столь же свято, как я.
— Сударыня, увидев вас, я с первого же взгляда понял, что вы честная женщина, — уверил аббат, — ибо в вашем присутствии я ощутил некое умиротворение, которое скорее сродни небесам, нежели грешной земле.
Моя матушка, будучи женщиной простой, но отнюдь не глупой, отлично поняла намек аббата и ответила ему, что, знай он ее лет двадцать назад, он составил бы о ней иное мнение, чем ныне, когда ее миловидность поблекла в этой лавке, где пышет огонь, чадят вертела и дымит похлебка. Но так как замечание аббата все ж таки уязвило матушку, она добавила, что, видно, пришлась по вкусу пекарю Оно, коли он всякий раз предлагал ей пирожок, когда она проходила мимо его булочной. В заключение матушка не без горячности сказала, что нет на свете такой уродливой девицы или женщины, которая не могла бы нагрешить, коли ей очень захочется.
— Моя славная женушка права, — подхватил батюшка. — Припоминаю, когда я был еще подручным в харчевне «Королевский Гусь», неподалеку от ворот Сен-Дени, мой хозяин, который в те времена был знаменосцем нашего цеха, каковым стал теперь я, сказал мне: «При такой безобразной жене, как моя, никогда не буду я рогоносцем». Слова эти навели меня на мысль сделать то, что он почитал невозможным. И мне это удалось при первой же попытке, как-то утром, когда он уехал по делам в Валле. Он правду сказал: супруга его была на редкость безобразна, зато отличалась умом и умела быть признательной.
Услышав эту забавную историю, матушка сильно прогневалась и сказала, что подобные речи не к лицу отцу семейства, если он желает, чтобы жена и сын относились к нему с должным уважением.
Господин Жером Куаньяр, заметив, что матушка даже побагровела от досады, с присущей ему ловкостью и добротой поспешил переменить разговор. Неожиданно для всех он обратился к брату Ангелу, который, спрятав руки под обшлага рясы, смиренно сидел у камелька, и спросил его:
— А какие реликвии вы, братец, развозили на осле второго викария в сопровождении сестры Катрины? Уж не ваши ли собственные штаны, которые вы давали лобызать прихожанкам, по примеру некоего францисканского монаха, чьи похождения описаны Анри Эстьеном[114].
— Ах, господин аббат, — вздохнул брат Ангел с видом мученика, готового пострадать за истину, — вовсе не мои штаны, а ногу святого Евстахия.
— Клянусь, я так и знал, прости мне бог мою клятву, — вскричал аббат, размахивая индюшачьим крылышком. — Эти капуцины откапывают святых, о которых и не слыхивали благочестивые отцы, толкующие Священное писание. Ни Тилемон, ни Флери даже не упоминают о святом Евстахии и совершенно напрасно воздвигли ему в Париже храм, когда есть десятки святых, чьи заслуги засвидетельствованы вполне уважаемыми писателями, однако ж эти святые еще только ждут такой чести. Житие этого Евстахия не что иное, как собрание нелепых россказней. И то же самое можно сказать о святой Екатерине, которая существовала лишь в воображении какого-то жалкого византийского монаха. Впрочем, не стану на нее нападать, поскольку она покровительница сочинителей и ее имя значится на вывеске лавки добрейшего господина Блезо, а его лавка самое восхитительное на свете место.