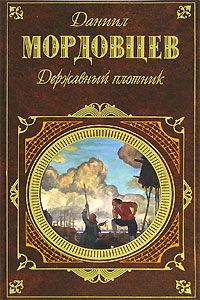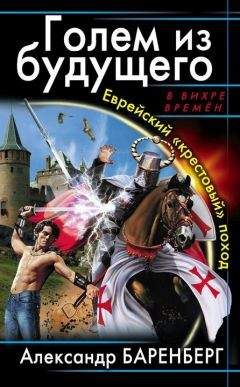Генеральская шинель, генеральские погоны.
– Вы это почему чести не изволите отдавать, а?
– Виноват, ваше превосходительство, не заметил! – солгал я.
– Неправда, Вы прекрасно видели меня и с целью смотрели в противоположную сторону. – – В какой армии служите?
Я несколько смутился.
– В белой, ваше превосходительство.
– Не может быть. Вы подумайте хорошенько, может быть, вы в красной армии служите?
– Никак нет, ваше превосходительство…
-По-моему, вы красный. Только там чести не отдают. Стыдитесь! Ступайте…
Почувствовали ли Вы тогда, что никакой военный суд, никакое многочасовое стояние
под шашкой не залили бы мое лицо такой краской, как Ваше краткое «стыдитесь»!
Потом, в Крыму, в разгар наших успехов, Вы приехали в наш полк. Двойной нитью выстроились Ахтырские гусары, Стародубские драгуны, Белгородские уланы – поэскадронно, в пешем строю. На крайнем правом фланге стоял я, впиваясь в Вашу фигуру, появившуюся из-за деревьев.
– Смирно! Господа офицеры!
Вы быстро подошли к нам, на несколько секунд задержались у правого фланга, в трех шагах от меня, сказали громко и отчетливо:
– Здорово, орлы!
– Здравия… жела… ваш… дит… ство!
Я долго не мог понять, как я заставил себя не выйти из рядов вперед, не подойти к Вам, не сказать Вам сквозь слезы:
– Ваше превосходительство, позвольте сказать Вам, как я счастлив видеть Вас. Есть в Вас, ваше превосходительство, что-то большее, чем глава армии. Есть в Вас, там, за сталью суровых глаз большая, славная нежность и большая любовь. К России ли любовь, к нам ли, всегда готовым умереть за нее, – я не знаю, но, вот, хочется сказать мне Вам что-то очень нужное, очень светлое, такое, чтобы вопреки всем воинским уставам и дисциплинам, все уланы, все драгуны, все гусары, все те, кто окован красным кольцом, понесли бы Вас на руках вперед, за Днепр, к Москве, понесли бы Вас как знамя, туда, где в крови и дыме рождается Россия!
Так хотелось выйти из фронта, крепко, до боли крепко пожать Вашу руку, как жмут руку большому, верному, единственному другу. И опять-таки не страх перед наказанием удержал меня – Вы, знаю, поняли бы, Вы, знаю, простили бы – а мысль, что, может быть, как тогда, в Новороссийске, пряча улыбку в глубине прозрачных глаз, Вы скажете:
– Вольноопределяющийся, только в красной армии солдаты выходят из строя. Стыдитесь!
И стало бы до боли стыдно.
Потом – эвакуация, лазарет в Джанкое, плен у красных. Потом долгие подвалы чрезвычайных комиссий. Потом пестрые плакаты, приносимые в застенки для вразумления пленных:
– Наемник парижской биржи – Врангель, черный барон, кровавый слуга капиталистов, враг рабочих и крестьян…
А в Севастополе, когда в жуть и темень бездомья уходили Вы с орлами Вашими, рабочие плакали. А в северной Таврии крестьяне и теперь говорят: петлюровцы грабили, махновцы грабили, деникинцы, случалось, тоже грабили, красные грабят, а вот только врангелевцы никогда не грабили и землю хотели дать. А в Мелитополе еще целый год после Вашего ухода Вас ждали жадно, нетерпеливо, о Вас молились.
Смотрел на убогие плакаты и смешно было. Ваше, такое знакомое, такое близкое лицо, изуродованное карикатурой – как странно это! – светилось прежней ласковостью. Хотелось любовно погладить советский лубок и сказать Вам, как говорят только матери, только невесте:
– Ваше превосходительство, это ничего. Пусть бьют, пусть расстреливают, мы знаем Вас, мы не поверим. Вы совсем близкий, совсем родной. Ваше превосходительство, если и я, полуубитый, упаду в общую могилу, знайте, что так любить Россию и гибнуть за нее научили меня Вы.
Бог спас меня. Видно, вымолила мне жизнь у Господа мать, отдавшая ему четырех сынов.
Теперь – мутный квадрат стены, Галлиполи, шнурок и Вы. Не знаю, дойдут ли к Вам эти несвязные строки, этот портрет Ваш – мозаика, сложенная из маленьких, из пестрых кусочков былого. Но вы не скажете, ваше превосходительство: «стыдитесь»! Вы поймете, что крепко храню в памяти эти кусочки, берегу хорошую память о Вас потому, что с Вами связан гордый и чистый год последней святой борьбы с теми, кого да проклянет Господь самым черным проклятием! Знаю – не осудите Вы и поймете, что это, может быть, немножко смешно, но не стыдно, если я сейчас подойду к Вашему портрету – желтому листу из «Die Woche» – и, став во фронт, скажу Вам, вождю моему:
– Ваше превосходительство, если России нужна будет моя жизнь, я отдам ее по первому Вашему зову!
(Новые русские вести. 1924. 17августа. № 198)
Когда в начало 1922 года советские газета аршинными буквами известили, что «белобандит Слащов принес повинную совнаркому, раскаялся в своих преступлениях перед пролетариатом и просит разрешения вернуться в РСФСР», это показалось очередной коммунистической уткой.
Кто угодно, только не Слащов! В особенности трудно было помириться с этой мыслью тем, кто имел случай наблюдать деятельность «Слащова-Крымского» на территории Вооруженных сил Юга России, где нынешний генерал-сменовеховец был значительной величиной с ярко-контрреволюционной окраской. С большим недоверием читая «Известия ВЦИКа» с сообщением о Слащове — это было в Петербурге, — я как-то невольно вспомнил и неестественно затянутую фигуру «начальника обороны Крыма», и его вечно бледное от кокаина лицо, и его лаконичные приказы, вроде: «Сначала приказываю, потом расстреливаю. Слащов», и висящего на телеграфном столбе в полной офицерской форме у окна слащовского вагона в Джанкое адъютанта нашумевшего в Крыму капитана Орлова.
Несмотря па некоторую ненормальность, постоянную рисовку и нелепые приказы «под Суворова», Слащов пользовался большой популярностью в Белой армии, в особенности в действующих, не тыловых частях: последние были положительно терроризированы свирепым генералом. Наряду с расстрелами и повешением подозрительных по большевизму рабочих, не всегда виновных, Слащов беспощадно преследовал расцветшую было махровым цветом спекуляцию, служебные злоупотребления и разгильдяйство на железных дорогах Крыма. Обнаружив непорядки на какой-то мелкой станции севернее Симферополя, Слащов обратился к служебному персоналу с приказом: «Обнаружил упущения. Строго покараю. Предупреждаю. Слащов», после чего, спустя неделю, издал новый приказ по той же станции: «Разгильдяйство прежнее. Всех, от начальника станции до смазчика, отправить на фронт рядовыми. Слащов».
Не был он лишен и храбрости, даже в значительном количестве. Мне лично неоднократно приходилось видеть, как Слащов шел впереди горсти храбрецов, отбивавших яростные атаки красных на Сивашах. Общепризнанная доблесть генерала как-то смягчала, затушевывала его отрицательные качества: страсть к вину и кокаину, сумасбродность, бессердечие к виновным, действительным и мнимым, и компрометирующий образ жизни, вроде постоянного присутствия в штабных вагонах подозрительных дам. С каховской катастрофой, преддверием катастрофы общекрымской, популярность Слащова упала. Отнюдь не считая себя авторитетом в этом гибельном для Добровольческой армии вопросе, отражая лишь мнение широкой массы защитников Крыма и ненадолго занятой Северной Таврии, массы, куда входил и я, хотел бы лишь указать, что, по мнению непосредственных свидетелей и участников последних событий у берега Днепра, в катастрофе в огромной степени был виноват Слащов. Утверждали, что генерал, получив задание защищать Каховку от красных, в массе сосредоточенных на противоположном берегу, сознательно допустил переправу через Днепр значительного количества советской пехоты, кавалерии и артиллерии крупного калибра, предполагая завлечь зарвавшихся красных в мешок, окружить их и уничтожить. Однако, по-видимому, стратегические способности Слащова оказались значительно слабее его неустрашимости: момент для ликвидации первого немногочисленного десанта советских войск был утерян или его просто проспал слащовский штаб, а с последними мощными десантами обессиленные непрестанными боями добровольцы уже не смогли справиться, и красная артиллерия утвердилась на природных позициях Каховского тед-де-пона. Остальное известно. Спустя краткий промежуток времени Белая армия была оттеснена за Перекоп, оказавшийся укрепленным далеко не так, как о том кричали ура-патриоты, а затем и за Черное море, в беспросветность продолжающейся и поныне эмиграции. Вместе с другими, если не раньше их, эвакуировался и Слащов, слишком «черный» для того, чтобы надеяться на красную амнистию.
Можно себе представить поэтому, как были удивлены в советской России «раскаянием» Слащова все, кто знал его былую и, думаю, искреннюю непримиримость к советской власти. Высказывалось даже предположение, что Слащов «притворяется», Слащов прибыл в Россию исключительно в целях поднятия восстания. Увы, на это «герой Крыма» не пошел и с легкостью, презрения достойной, предал своих соратников и «продал шпагу сплою». Правда, шпаги этой не приняли, командной должности в Красной армии Слащову не дали, но под вечным дамокловым мечом советской немилости и малому будешь рад: Слащов довольствовался ролью лектора красным курсантам, изредка поругивал в коммунистических органах зарубежную «контрреволюцию».