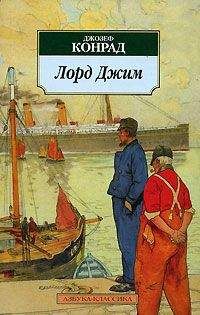– А потом есть Джюэл, – сказал он, нарушая великое молчание земли, неба и моря, которое так глубоко завладело даже мыслями моими, что его голос заставил меня вздрогнуть. – Есть Джюэл.
– Да, – прошептал я.
– Мне не нужно вам говорить, что она для меня, – продолжал он. – Вы видели. Со временем она поймет…
– Надеюсь, – перебил я.
– Она тоже мне доверяет, – проговорил он, а затем уже другим тоном сказал: – Интересно, когда мы теперь увидимся.
– Никогда, если вы отсюда не уедете, – ответил я, избегая его взгляда. Он как будто не удивился; секунду он стоял неподвижно.
– Значит, прощайте, – сказал он, помолчав. – Быть может, так лучше.
Мы пожали друг другу руку, и я направился к шлюпке, которая ждала, уткнувшись носом в берег. Шхуна, с гротом и кливером, поставленными по ветру, подпрыгивала на пурпурном море; в розовый цвет окрасились ее паруса.
– Вы скоро поедете опять на родину? – спросил Джим, когда я перешагнул через планшир.
– Через год, если буду жив, – сказал я.
Нижняя часть форштевня заскрипела по песку, шлюпка скользнула вперед, сверкнули и погрузились в воду мокрые весла. Джим у края воды повысил голос.
– Скажите им… – начал он.
Я знаком приказал гребцам остановиться и ждал, недоумевая: кому сказать? Солнце наполовину погрузилось в воду; я видел красные отблески в его глазах, когда он молча смотрел на меня.
– Нет… ничего, – сказал он и слегка махнул рукой, отсылая шлюпку. Я больше не смотрел на берег, пока не поднялся на борт шхуны.
К тому времени солнце зашло. Сумерки сгустились на востоке, и берег, почерневший, протянулся темной стеной, казавшейся твердыней ночи. Западный горизонт горел золотыми и малиновыми огнями, и в этом зареве большое облако застыло, темное и неподвижное, отбрасывая аспидно-черную тень на воду. Я увидел Джима, который с берега следил, как отходит шхуна.
Два полуобнаженных рыбака приблизились, как только я уехал. Несомненно, они жаловались на свою маленькую жалкую жизнь белому Лорду, и несомненно – он слушал, принимая эту жалобу близко к сердцу, ибо разве не была она частицей его удачи, – полной удачи, которой он, по его уверению, достоин и которую мог принять? Тем тоже, я думаю, повезло, и я уверен, что у них хватило настойчивости использовать свою удачу. Их темные тела слились с черным фоном и исчезли гораздо раньше, чем я потерял из виду их защитника. Он был белый с головы до ног и упорно не скрывался из виду; твердыня ночи вздымалась за его спиной, море раскинулось у его ног, счастье его стояло подле – все еще под покрывалом. Что вы скажете? Было ли оно все еще под покрывалом? Я не знаю. Для меня эта белая фигура на тихом берегу казалась стоящей в сердце великой тайны. Сумерки быстро спускались на него с неба, полоска песка уже исчезла у его ног, он сам выглядел не больше ребенка, потом стал только пятнышком, – крохотным белым пятнышком, словно притягивающим весь свет, какой остался в потемневшем небе… И внезапно я потерял его из виду.
Этими словами Марлоу закончил свой рассказ, и слушатели тотчас же начали расходиться, провожаемые его рассеянным, задумчивым взглядом. Люди спускались с веранды парами или поодиночке, не теряя времени, не высказывая никаких замечаний, словно последний образ в этой незаконченной повести, самая незаконченность ее и тон рассказчика сделали обсуждение излишними и комментарии невозможными. Каждый как бы уносил с собой свое впечатление, – уносил, как тайну; но только одному человеку из всех слушавших суждено было узнать последнее слово этой истории. Оно пришло к нему на родину больше двух лет спустя, пришло в толстом пакете, адресованном прямым и острым почерком Марлоу.
Тот, кому посчастливилось, вскрыл пакет, заглянул в него; затем, положив на стол, подошел к окну. Комната его находилась в верхнем этаже высокого здания, и он мог глядеть вдаль сквозь светлые стекла, словно из фонаря маяка. Скаты крыш блестели; темные зазубренные гребни сменялись один другим без конца, как мрачные невспененные волны, а из глубин города доносился смутный и несмолкающий рокот. Шпили церквей, многочисленных, беспорядочно разбросанных, вздымались, как маяки в лабиринте отмелей, не разделенных каналами; шел дождь; спускались сумерки зимнего вечера; бой больших башенных часов прокатился мощно и сурово и оборвался резким вибрирующим звуком. Человек опустил тяжелые занавеси.
Свет лампы под абажуром спал, как стоячий пруд; ковер заглушал шаги; дни его скитаний миновали. Нет больше беспредельных, как надежда горизонтов, нет больше сумеречного света в торжественных, как храм, лесах, нет горячих поисков вечно неоткрытой страны за холмом, по ту сторону потока, за волнами… Час пробил! Кончено! Кончено!.. Но вскрытый пакет на столе под лампой вернул звуки, видения, аромат прошлого – калейдоскоп блекнущих лиц, гул тихих голосов, замирающих на берегах дальних морей в страстном и неумолимом сиянии солнца. Он вздохнул и сел к столу.
Сначала он увидел три отдельных рукописи: толстую пачку листов, мелко исписанных и сколотых вместе; квадратный сероватый лист бумаги, на котором было написано несколько слов незнакомым ему почерком, и пояснительное письмо от Марлоу. Из этого последнего письма выпало другое, пожелтевшее от времени и потертое на сгибах. Он поднял его и, отложив в сторону, обратился к посланию Марлоу. Быстро пробежал первые строчки, потом, сделав над собой усилие, стал читать спокойно – как человек, медленными шагами настороженно приближающийся к мелькнувшей вдали неоткрытой стране.
«…Не думаю, чтобы вы забыли, – читал он. – Вы один проявили интерес к нему, – интерес, переживший мой рассказ, хотя я помню хорошо, вы не хотели согласиться с тем, что он подчинил себе судьбу. Вы предсказывали катастрофу: скуку и отвращение к обретенной славе, к возложенным на себя обязанностям, к любви, вызванной жалостью и молодостью. Вы сказали, что хорошо знаете «такого рода вещи» – призрачное удовлетворение, какое они дают, неизбежное разочарование. Вы сказали также, – напоминаю вам, – что «отдать свою жизнь им (под «они» подразумевалось все человечество с кожей коричневой, желтой или черной) – все равно что продать душу зверю». Вы допускали, что «такого рода вещи» выносимы и длятся лишь в том случае, если основаны на твердой вере в истину наших расовых идей, во имя которых установлен порядок и мораль этического прогресса. «Нам нужна эта опора, – сказали вы. – Нам нужна вера в необходимость и справедливость этих идей, чтобы с достоинством и сознательно принести в жертву свою жизнь. Без этого жертва является лишь забвением, а путь к жертве не легче, чем путь к гибели». Иными словами, вы утверждали, что мы должны сражаться в рядах, иначе жизнь наша в счет не идет. Возможно! Кому и знать, как не вам, – говорю это без всякого лукавства, – вам, который заглянул один в заброшенные уголки и сумел выбраться оттуда, не опалив своих крыльев. Но суть та, что Джиму не было дела до всего человечества, он имел дело лишь с самим собой, и вопрос заключается в том, что не пришел ли он наконец к вере более могущественной, чем законы порядка и прогресса.
Я ничего не утверждаю. Быть может, свое мнение выскажете вы – после того, как прочтете. В конце концов есть много правды в простом выражении «в тени облака». Невозможно разглядеть Джима отчетливо – в особенности потому, что глазами других приходится нам смотреть на него в последний раз. Я, нимало не колеблясь, сообщаю вам все, что мне известно о том последнем эпизоде, который, как он обычно говорил, «приключился с ним». Недоумеваешь, был ли это благоприятный случай, то последнее испытание, какого он, казалось, всегда ждал, чтобы затем послать весть о себе непогрешимому миру. Вы помните, когда я расставался с ним в последний раз, он спросил, скоро ли я поеду на родину, и вдруг крикнул мне вслед:
– Скажите им…
Я ждал – признаюсь, заинтересованный и обнадеженный – и услышал только:
– Нет. Ничего!
Итак, это было все – и больше ничего не будет, – не будет вести, кроме той, какую каждый из нас может перевести с языка фактов, часто гораздо более загадочных, чем самая сложная расстановка слов. Правда, он сделал еще одну попытку высказаться, но и она была обречена на неудачу, как вы сами убедитесь, если взглянете на сероватый листок, вложенный в этот пакет. Он попытался писать, – видите этот банальный почерк? И заголовок: «Форт Патюзан»? Полагаю, он выполнил свое намерение превратить дом в защищенное убежище. Это был великолепный план: глубокая канава, земляной вал, обнесенный частоколом, а по углам пушки на платформах, защищающие каждую из сторон четырехугольника. Дорамин согласился дать ему пушки; итак, все сторонники его партии знали, что есть надежное место, на которое может рассчитывать верный партизан в случае внезапной опасности. Все это говорит о разумной предусмотрительности, о его вере в будущее. Те, кого он называл «мой народ», – освобожденные пленники шерифа, – должны были поселиться в Патюзане, образовав отдельный округ; предполагалось, что хижины их и участки раскинутся у стен крепости. А в крепости он будет полным хозяином «Форт Патюзан». Нет числа, как видите. Какое значение имеют число и день? И невозможно угадать, к кому он обращался, когда взялся за перо, – к Штейну… ко мне… ко всему миру… или то был лишь бесцельный испуганный крик одинокого человека, столкнувшегося со своей судьбой. «Случилась ужасная вещь», – написал он перед тем, как в первый раз бросить перо; посмотрите на чернильное пятно, напоминающее наконечник стрелы, под этими словами. Немного погодя он снова попытался писать и нацарапал тяжелой, словно свинцом налитой рукой следующую фразу: «Я должен теперь немедленно…» Тут снова брызнули чернила, и он отказался от дальнейших попыток. Больше нет ничего. Он увидел широкую пропасть, которую нельзя покрыть ни взглядом, ни голосом. Я могу это понять. Он был ошеломлен необъяснимым, ошеломлен своей собственной личностью – даром той судьбы, которую он всеми силами пытался себе подчинить.