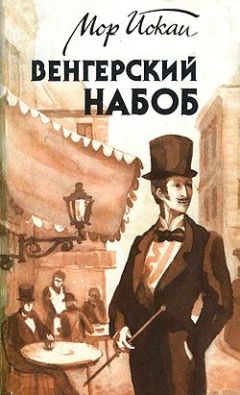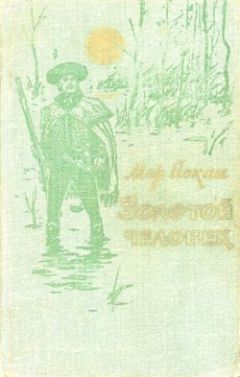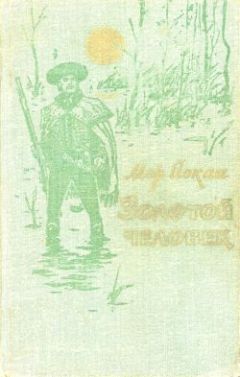О! Черт даже еще пострашнее, чем его малюют.
– Я разговоры такие не люблю. Хоть бы и взаправду жениться хотел. Что хорошего? Таких жен не своего круга господа не ставят ни во что, третируют, презирают А вот как Рези Хальм – их не трогают, им дают жить.
(Ну да, третируют: не угождают, значит; не льстят им.)
Но дальше, дальше.
– Я уж прямо и не знала, жалеть его или прогнать, бедолагу, совсем голову потерял. И вдруг исчез куда-то из города. Тогда он уже в полном расстройстве был, думал, женился кто-то на тебе да увез. Приходит ко мне, ровно сумасшедший, спрашивает, где ты. «Ведать, сударь, не ведаю, говорю, давно ее у меня забрали. Может, и замуж вышла». Тут он побледнел сильно так и на тахту бросился, где голубков-то ты с розочками вышила. Жалко стало мне его: уж такой раскрасавец юноша, в жизни приятней не видела, глаза какие, а брови! Лицо нежное такое, бледноватое, губы – точно у девушки, ручка бархатная, росту стройного… Ну, да что делать. Что же раньше думал, коли намерения серьезные имел, говорю ему. А он-де кончины дядюшкиной ждал, говорит, – дядя против этого брака. «Вы-то ждали, а девушке сколько ждать, она старухой, может, будет уже, пока дядюшка ваш помрет». Да мы бы тайно, говорит, обвенчались. «Эх, сударь, как прикажете верить, мужчинам разве можно в наше время доверять. Сделаете девушку несчастной, а про венчанье и молчок». Ну ладно, говорит, коли в честное мое слово и в венчанье не верите, я, мол, шестьдесят тысяч наличными готов вам предоставить в залог, и уж если я бесчестный такой клятвопреступник, что девушку брошу, пускай и это потеряю. Вот я и думаю: шестьдесят тысяч – деньги пребольшие, такими не швыряются, это для любого потеря чувствительная; даже и не припомню сейчас, чтобы вельможа какой под шестьдесят тысяч слово свое нарушал, особливо ежели красавице такой его дал, как Фаннинька моя…
– Спокойной ночи, спать хочется, – пробормотала Фанни, откидываясь на подушки; но долго еще металась, борясь с ужасом, неприязнью и гадливостью, которые подымались в душе. Лишь на самой заре усталость наконец взяла свое.
Солнце уже ярко светило в окно, когда Фанни пробудилась.
Пока она спала, странные картины ее преследовали, и после пробуждения в сознании все еще беспорядочно сплетались явь и грезы, порождения фантазии и доводы рассудка.
Часто ночь напролет мечешься, трепещешь, но утром совершенно привыкаешь к образам, которых так боялся во тьме.
А иной раз до того углубишься накануне в раздумья, мучительные размышления, что и сон переймет то же направленье и при богатом воображении не только фантасмагории, но и здравые идеи навеет. Спящий тогда становится провидцем. Потому-то и говорится, что утро вечера мудренее. Проснувшись, из такого трезвого далека созерцаешь клубившееся всю ночь марево сна, будто недели, месяцы протекли с тех пор.
Видя, что мать встала раньше и уже вышла, Фанни в неожиданно хорошем настроении вскочила и проворно оделась, едва дав себе труд привести кое-как волосы в порядок.
Завтрак уже ждал ее. Майерша сварила тем часом кофе на кухне, поджарила хлеб – все своими руками, не подпуская прислуги. Заслуживает же этакая красавица дочка, чтобы мать немножко и похлопотала для нее.
Мастер не употреблял этого темного чужеземного напитка, не имел обыкновения. Утречком рано он по пятидесятилетней своей привычке закусил копченым салом с красным перцем, умяв порядочный кусок, который запил целой флягой сливянки, и пошел себе как ни в чем не бывало в поле. Только в чуть хрипловатом голосе чувствовался легкий «градус».
Фанни осталась за кофе наедине с матерью. Болтаи не видел причин беспокоиться из-за этого: пускай нажалуется вволю бедная старуха. А Фанни жаловаться, кажется, нечего – по крайней мере, на своих опекунов.
Девушка пожелала матери доброго утра и поцеловала ей руку. Та возвратила поцелуй.
– Дай-ка, дай-ка ручку свою расчудесную, прекрасную. Ах, милая ты моя, единственная. Ой, да как же счастлива-то я, что с тобой сижу. Давай сама кофейку тебе налью. Знаю, знаю, как любишь: молочка побольше, сахарку поменьше, вот так. Видишь, не забыла ничего.
Майерша болтала без умолку. Прежде ее сдерживало присутствие Терезы: под холодным, неотступным ее взглядом она съеживалась, настораживалась, а теперь чувствовала себя свободно.
Фанни прихлебывала кофе и слушала, посматривала на мать, которая не уставала ее хвалить, душкой, раскрасавицей, чаровницей называя и убеждая, уговаривая все доесть.
– Мама, – прервала ее девушка, беря за руку (она не питала к ней больше отвращения), – как того господина зовут, который обо мне расспрашивал?
Глазки Майерши лукаво блеснули: ага, сама в силки бежит!
Но вглядись она получше ей в лицо, то заметила бы, что дочь даже не покраснела, задавая такой вопрос, – осталась бледной и спокойной.
С таинственным видом оглянулась Майерша по сторонам, не услышат ли, потом привлекла к себе Фаннину головку и шепнула на ушко: «Абеллино Карпати».
– Да? Так это он? – сказала Фанни со странной, очень странной улыбкой.
– Знаешь разве?
– Видела раз издалека.
– Красивый мужчина, приятный, обходительный; никогда красавца такого не видывала.
Фанни собирала крошки со скатерти, поигрывала кофейной ложечкой.
– Это ведь много – шестьдесят тысяч форинтов. Правда, мама?
(Ага, попалась птичка, теперь поскорее сеть затянуть!)
– Очень много, детонька, законный с них процент – три тысячи шестьсот форинтов. Долгонько бедному человеку пришлось бы землю ковырять, чтобы доход такой заполучить.
– Скажите, мама, а у папы было столько?
– Что ты, детонька. Он, когда до девятисот догнал, считал уже, что много, а это четвертая только часть. Сама посчитай: четырежды девять – тридцать шесть. У него вчетверо меньше было.
– Да правду ли сказал Абеллино, что женится на мне?
– Так он в любую минуту согласен залог внести.
Фанни, казалось, готова была сдаться.
– Ну да, ведь если обманет, ему же хуже, шестьдесят тысяч так и так нам достанутся.
«Вот умница девочка! Не то что сестры-ветреницы. Эта не даст себя провести. Моя дочь», – думала Майерша, радостно потирая руки.
Надо ковать железо, пока горячо.
– А как же, доченька. Помечтать куда как сладко, да мечтами одними сыт не будешь. Это господа поэты про идеалы вон стихи любят сочинять, да и те так и глядят, где бы деньжат ухватить. Нынче все за деньгами только и гоняются. Кто с деньгами, тому и честь. А честь без гроша – кому она нужна? Ты покамест еще молода, красива, вот и охотятся за тобой. Но сколько она продержится, эта красота? Десяток лет – и нет ее. Так что же, разве заплатят тебе за радости, которых ты себя лишишь, молодость праведницей прожив?
О, да эта женщина будто и святого крещения не принимала. Все решительно у нее земное. И небо – лишь фигура поэтическая.
– При такой жизни и десятка лет красота твоя не сохранится, – еще более веско добавила Майерша. – женщины, которые радостей земных себя лишают, скорее увядают.
– Тише, Болтаи идет!
Почтенный мастер, войдя, пожелал доброго утра и сказал, что едет в город, не надо ли чего передать, лошади уже запряжены.
– Маме в город нужно, – тотчас ответила Фанни, – не прихватите ее? Будьте добры, дядюшка.
Майерша даже глаза вытаращила и рот разинула. Она и не заикалась ни о каком отъезде.
– Охотно, – отвечал Болтаи. – Куда прикажете?
– Домой, к дочкам (Майерша перепугалась). Вышивки там у меня кое-какие остались, сестрицы еще выбросят их или на толкучку снесут; мама привезет. (Ах, умница, разумница!) Тахта там с вышивкой моей, знаете, мама, – два голубка; ее мне ни за что не хотелось бы сестрам оставлять. Хорошо?
Еще бы не хорошо! Это она ведь согласие дает на предложение того господина, да тонко как, тупоумный этот Болтаи ни о чем и не догадывается. Вот умница, вот разумница!
Мастер вышел сказать кучеру, чтобы для дамы приготовил местечко.
– Когда приехать за тобой? – воспользовавшись его отсутствием, шепотом спросила Майерша.
– Послезавтра.
– А что там передать?
– Послезавтра, – повторила Фанни.
Тут вернулся Болтаи.
– Обождите минуточку, милый дядюшка, я несколько строк Терезе напишу, – сказала Фанни, – отвезите ей.
– С удовольствием. Да ты бы на словах, чего пальцы чернилами-то марать.
– Ладно, дядя, скажите тогда тетеньке, пусть кашемира мне купит на шаль да локоть pur de laine[226] или же poil de chévre…[227]
– Ну, ну, напиши лучше тогда, – испугался Болтаи иностранных слов, – не запомню все равно.
Улыбнувшись, взяла Фанни письменные принадлежности, набросала коротенькое письмецо, запечатала и протянула мастеру.
Майерша украдкой еще раз бросила на нее многозначительный заговорщический взгляд. Ее подсадили на повозку, и она укатила под звонкое щелканье кнута.
А Фанни холодно, с насмешливой гримаской посмотрела вслед и вернулась к себе. Там полила она цветочки, покормила птичек, весело, задорно при этом напевая.