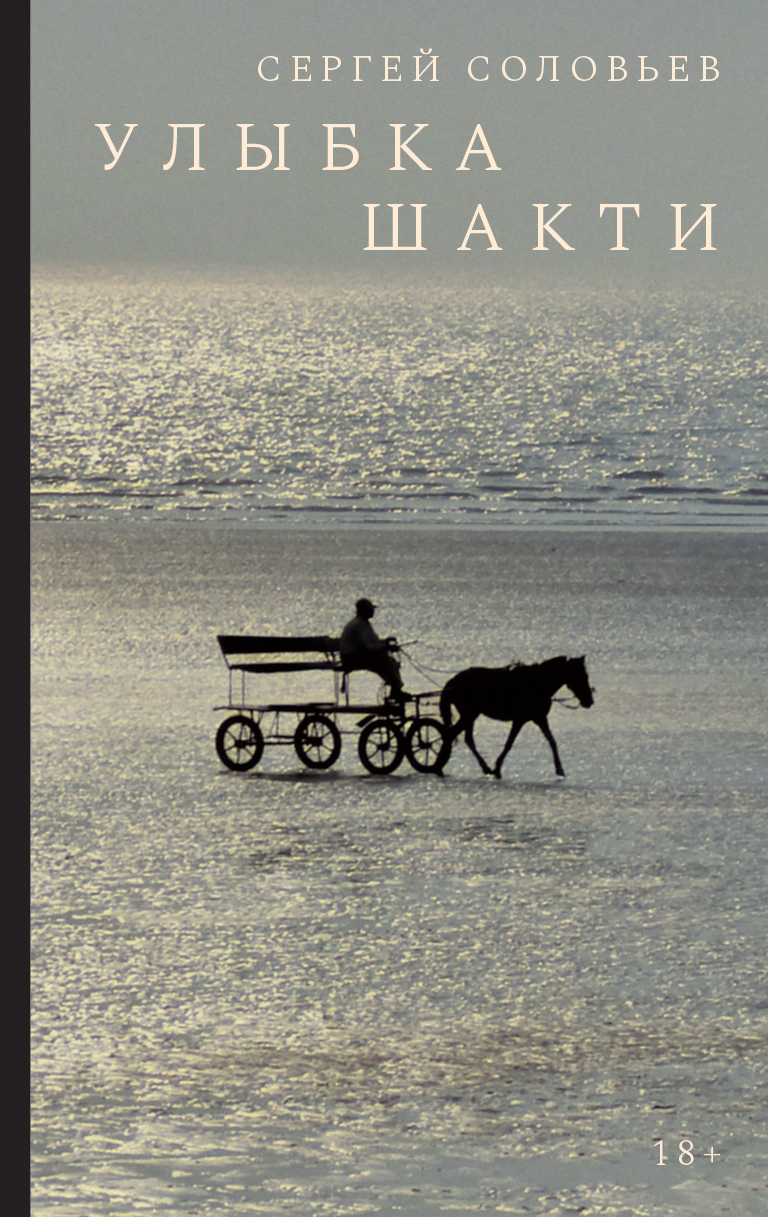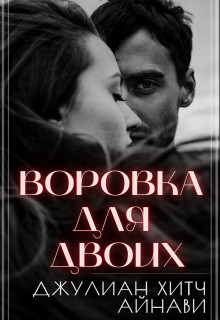трех дней, описывая круги по деревне, уходя по дороге в соседние, встречаясь с другими свадьбами и не вполне возвращаясь. Наряженные жених и невеста сидят на лошади, которую ведут под уздцы родные и близкие. Впереди несколько человек тянут за собой на веревках генератор с протянутыми от него проводами к светильникам, которые несут в руках и на головах светоносцы, за ними движется помост на колесах, где сидят музыканты, дуют в трубы и дубасят в барабаны, за ними движется пляшущая процессия, за которой – лошадь с молодоженами, за которыми… И так – от горизонта до горизонта – все три дня и ночи, которые переходят в следующие свадьбы.
Тая сидит на веранде, разговаривая с отцом по скайпу. Он в Сибири, давно уже с другой семьей, ходит в тайгу, ставит силки на зайцев, а на зиму с женой заготавливают лесные дары. А я иду в гавань за скатом на ужин. Но скат лежит на песке один – огромный, пятиспальный. Хожу, смотрю, что взять взамен. И вдруг – это, небывалое, ни один рыбак не может назвать мне имя ея. Нет у нее ни имени, ни семьи, ни родины. Тело тонкое, змеиное – цвета бронзы в патине. Губки – «скажи: изюм» и крохотный хвост, как корона принцессы эльфов. Шедевр пучинного Боттичелли. Взял ее, прижал к сердцу. Днем спустя нашел в интернете ее имя: глубоководная рыба-флейта.
С отцом разговаривала и иногда с сестрой, которая была чуть младше ее, почти глухая с детства, жила в Москве, одна, с тихой длинной обидой на старшую, у которой жизнь сложилась так ярко, с мужьями, детьми, путешествиями, а ей привелось все эти годы ухаживать за больной матерью, и вот, уже смирившись и не чаяв, встретила человека, не успели обвенчаться, как сообщили, что его уже нет в живых. Однажды она выбралась к ней в Севилью, погуляли по городу, а потом Тая устроила ее в курортном пансионате на берегу океана. Как же, говорю, она там одна, без слуха, без языка? Она так хотела, говорит, ей хорошо одной. И Тае хорошо. Я улетал в Индию, она – на Бали, живя там одна в глухомани с серым вулканическим песком на побережье, брала маску, трубку, плавала днями, глядя вниз, в зазеркалье рыб и кораллов. Всем, прости господи, хорошо.
На всенощный праздник вишнуистского бога Виттала, покровителя и подданного Кундалини, и его храма, притихшего на холме у безвестной деревушки на юге Махараштры, мы приехали с молодым профессором физики и нашим другом Шреасом. Отец у него брамин, а мать зовут Река, она директор школы в нашей рыбацкой деревне, и просто, как мы ее звали, Волга Индии. Добирались мы туда на машине Шреаса проселочными дорогами и паромными переправами весь день и прибыли к ночи, начавшейся с совместного семейного ужина на сто человек. Затем женщины увели под руки Таю в дом, вернулась она едва узнаваемой, в темно-вишневом сари с золотыми нитями, причесанная, как богиня времен Вед, в серебре браслетов и цепочек на лодыжках, и еще каких-то мерцаниях и высверках других украшений, которые проявляли себя лишь при ее движениях. Смотреть на нее – терять землю под ногами, но и отвести глаз невозможно. Царственно поднятая голова, тонкая открытая шея, и взгляд – спокойный и слегка отстраненный. И глаза – такого глубокого карего света, что казались древнее Индии. На тонком лице юной женщины в обрамленье светлых, слегка волнистых волос, ниспадавших к груди. Мы поднялись на холм к храму, где уже ждали музыканты, и началась всенощная Виттала со сводящим с ума хоровым пением детей и взрослых, факельным шествием вокруг храма и обносом его мурти бога, сидящего в паланкине, и потом – с молчаливыми разговорами у костра и забытьем вповалку на земле, где я лежал между двумя стариками, а Тая сидела во тьме у обрыва и смотрела вниз на огни деревни. А наутро туман, обратный путь, паромы через устья рек, впадающих в забытье океана.
Прежде временами я ее подначивал: давай попробуем заглянуть за предел отпущенного людям в телесной близости – и физически, и психически. Что и было у нас почти всякий раз, но всегда оставалось это мерцание проемов, за которыми, наверное, еще были дали, куда не дошли. Шесть непрерывных часов, как я это называл. Зачем это нам, озорно прищуривалась она. И почему шесть?
А на закате шли на мыс, к маяку. Как же мне нравилось с ней идти. Просто идти, за руку или без. Легко, в одном ритме. Присели на траву на мысе, глядя на дух над водами, на отвесный свет солнца, зашедшего за облако. Тая взяла камеру, отошла на несколько шагов. Может, поговоришь, расскажешь об этом месте, включить?
Где ж мы находимся? Солнце заходит за Аравийским морем, откуда в тысяча пятьсот каком-то году из Африки поднялась вдруг туча песка, перенеслась с одного континента на другой и, успокоясь, легла здесь, в нескольких километрах от этого маяка, где мы сидим. Небывалое цунами в тот год случилось и перебросило сотни тонн песка, как из ладони в ладонь – из Африки в Индию. И стихло – я не я и песня не моя. Лежит. Двадцатиметровой толщины слой. Африканского песка. Который жил там, золотился, скрипел, пересыпался. А теперь здесь, в Индии, в другой земле, стране, языке, у того же моря, но с другой его стороны. Пятьсот лет лежит. И день известен, когда лег, и месяц, год. Мы были там, видели, ходили вдоль границ его очертаний. И, как некий затерянный во времени архивариус, стоит, понурясь, брошенный экскаватор на берегу. А здесь, за моей спиной внизу – гавань Харнай. Бог весть, в какие дали ведет история гавани и этой мало кому известной деревушки. Вдоль берега тянутся Западные гхаты, а эта узкая полоса побережья, уходящая на юг к земле дравидов, называется Кокан. Здесь плантации лучшего в мире манго. Здесь… Переведи камеру на гавань. Веселая рыболовная флотилия с вереницей разноцветных флагов, в том числе и черных, которыми помечают опущенные в море сети. А на берегу – рыбный рынок, пучинный вавилон рыб: многометровые меч-рыбы, и огромные скаты, и разноликие акулы с ухмыляющимся полумесяцем чуть съехавшего набок полуоткрытого рта, и тысячи каракатиц, этих иллюминатов, ежесекундно меняющих не только цвет, но и, кажется, формы жизни. Сгружают на лодки, подвозят к берегу, а там их встречают повозки-колесницы, запряженные белыми быками-зебу, заходящими по грудь в воду. Рыбу с лодок перекидывают в повозки и доставляют на берег – туда, на торг, на жизнь, на рынок, как восклицал Хлебников, где уже бурлит толпа, ждут аукциона, верней, десятки аукционов вокруг распластанных на песке рыбных сословий, разминаются глашатаи, эти цицероны цен, прочищают глотки. А женщины! В полыхающих одеждах, с невероятно изысканным в своей простоте сочетанием рисунка и цвета, с густыми и длинными, но всегда умонепостижимо заплетенными и уложенными ночами волос, и невозможно юной, даже у старух, кожей, в сверкающих от лодыжек до темени украшениях – браслетах, кольцах, серьгах, цепочках, всей этой милой цыганщине… И чистые, как божий свет. В этой грязи, пыли, чистя рыбу кривыми ножами чаку в гомоне рынка. Женщины, с их хриплыми голосами пираток, под стать голосам ворон, чаек и цапель, которых здесь не счесть, снующих меж людьми и ворующих рыбу. А поодаль – скольщики льда большими ухватами вздымают айсберги и швыряют в камнедробильный механизм. Обо всем этом можно говорить дни и ночи. А здесь, где сидим на мысе, замыкающем гавань, стоит тихий маяк, заброшенный. И домики среди деревьев, где поначалу хотели поселиться. Сюда