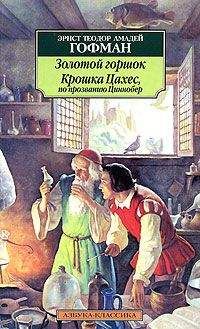Я готов был сорваться с постели, но ужас ледяным покровом придавил меня, и любое движение вызывало страшную судорогу, разрывавшую мне мускулы. Только одна звучала во мне мысль, и она вылилась в горячую молитву: "Господи, спаси меня от темных сил, готовых ринуться на меня из отверстых врат ада!" И случилось так, что эту молитву, которую я твердил лишь в глубине души, я отчетливо слышал как произносимую вслух, и она заглушала постукивание, хихиканье, жуткую болтовню страшилища-двойника; ослабевая, звуки эти превратились наконец в какое-то странное жужжание, словно это южный ветер поднял в воздух тысячи зловредных насекомых, и они, опустившись на поле, высасывали своими ядовитыми хоботками сок из наливавшихся злаков. Внезапно это жужжание перешло в безутешную человеческую жалобу, и вот уже душа моя вопрошала: "Не вещий ли это сон, что прольет целительный, умиротворяющий елей на твои кровоточащие раны?"
В это мгновение сквозь угрюмый бесцветный туман прорвалось пурпурное сияние вечерней зари и на фоне ее обозначилась чья-то высокая фигура.
Это был Христос-у него из каждой раны капельками сочилась кровь, и земля празднично расцвечивалась алым, и стоны людей сменились ликующим гимном, ибо алое означало милосердие Божие, которое всех осенило! Только кровь Медарда бесцветным ручьем лилась из раны, и он истово молил: "Неужели на всем земном просторе лишь я один лишен надежды и обречен на вечные муки проклятия?" Но вот в кустах что-то зашевелилось, и роза, ярко окрашенная огнистым пурпуром зари, подняла свою головку и взглянула на Медарда с ангельски-нежной улыбкой, и тонкое благоухание разлилось вокруг него, и было это благоухание волшебным свечением чистейшего весеннего эфира. "Победил не огонь, ибо нет борьбы между светом и огнем… Огонь – это слово, озарившее грешника"… Казалось, это произнесла роза, но роза исчезла, а на ее месте была неизъяснимо милая девушка.
В делом одеянии, с розами, вплетенными в темные волосы, она шла мне навстречу… "Аврелия!" – воскликнул я, просыпаясь. Чудесное благоухание розы наполняло келью, и что это, не обман ли возбужденных чувств? – наяву мне ясно представилась Аврелия; она устремила на меня свой задумчивый взор, а затем, с первыми лучами утреннего солнца, заглянувшими в келью, растворилась в них, рассеялась, как легкий аромат.
Отныне ясны стали мне все искушения сатаны и моя греховная слабость. Я поспешно спустился вниз и, придя к алтарю святой Розалии, пламенно молился перед ее образом.
И больше никаких бичеваний, никакого покаяния в монастырском духе. А когда полуденное солнце бросало на землю отвесные лучи, я находился уже в нескольких часах ходьбы от Рима.
Не только увещания Кирилла, но и неудержимое духовное томление по родине гнало меня по той же самой тропе, по какой я совершил свое странствование в Рим. Так, задумав бежать от того места, где я связал себя обетом, я, помимо своей воли, шел кратчайшим путем к поставленной мне приором Леонардом цели…
Я прошел стороной герцогскую резиденцию, но вовсе не из страха, что меня узнают и предадут суду, а потому, что не мог же я без душераздирающих воспоминаний возвратиться туда, где, в греховной извращенности, я стремился к земному счастью, от которого еще в юности отрекся, посвятив себя Богу… ах, туда, где, отвратившись от вечного и непорочного духа любви, я счел высшим озарением жизни, в котором в едином пламени сольются чувственное и сверхчувственное, – миг удовлетворения плотской страсти… туда, где кипучая полнота бытия, питаемая своим же собственным избытком и богатством, казалась мне началом, враждебным тому стремлению к небесному, которое я мог бы назвать тогда лишь противоестественным самоотрицанием человеческой природы!
Более того!.. в глубине души я опасался, что, несмотря на крепость духа, достигнутую благодаря моему теперешнему безупречному образу жизни и продолжительному тяжкому покаянию, я не смогу стать победителем в той борьбе, на какую внезапно могла вызвать меня вновь та сумрачная, наводящая ужас сила, воздействие которой я столь часто и столь мучительно испытывал на себе.
Увидеть Аврелию!.. быть может, во всем блистательном могуществе ее красоты и грации!.. Да мог ли я подвергнуть себя такому испытанию, не опасаясь, что снова победит дух зла, который все еще распалял адским пламенем мою кровь, – и она, кипя и бурля, неслась по моим жилам.
Как часто являлся мне образ Аврелии, но и до чего же часто в душе зарождались чувства, греховность которых я сознавал и тщился подавить их всею силою моей воли. Только это сознание, заставлявшее меня бдительно присматриваться к самому себе, а также ощущение собственного бессилия, повелевавшее мне уклоняться от борьбы, подтверждали, как мне казалось, искренность моего покаяния, и я черпал утешение в том, что по крайней мере дух гордыни, самонадеянно толкавший меня на дерзкую схватку с темными силами, покинул меня.
Вскоре я очутился в горах, и однажды утром из тумана расстилавшейся передо мной долины выплыл замок, который я, подойдя ближе, сразу же узнал. Я находился в поместье барона Ф. Парк одичал и запустел, аллеи заросли травой и бурьяном; перед самым замком, на том месте, где прежде был такой прекрасный газон, паслись в высокой траве коровы; в окнах замка местами недоставало стекол, лестница обрушилась.
И кругом ни души.
Молча, неподвижно стоял я, переживая чувство полного, навевающего ужас одиночества. Вдруг до меня донесся слабый стон из рощицы перед замком – за нею, как видно, еще присматривали, – и я увидел старика в белоснежной седине, он сидел в этой рощице и, казалось, вовсе меня не замечал, хотя я и стоял довольно близко от него. Подойдя к нему еще ближе, я разобрал слова:
– Умерли… умерли все, кого я так любил!.. Ах, Аврелия, Аврелия… и ты!.. последняя!.. ты умерла… умерла для этого мира!
Я узнал престарелого Райнхольда и на миг замер на месте.
– Аврелия умерла? Нет-нет, ты заблуждаешься, старик, ее как раз и уберег Предвечный от ножа преступного убийцы…
Услыхав мой голос, старик вздрогнул, словно громом пораженный, и громко воскликнул:
– Кто это?.. Кто?.. Леопольд!.. Леопольд!
Прибежал мальчик. Он низко поклонился, заметив меня, и произнес:
– Laudetur Jesus Christus![13]
– In omnia saecula saeculorum[14], - ответил я.
Старик вскочил и спросил еще громче:
– Кто тут?.. Кто?..
Только теперь я догадался, что он слеп.
– Тут его преподобие, монах ордена капуцинов,- объяснил мальчик.
На старика напал такой страх, такой ужас, что он закричал:
– Прочь… прочь… Мальчик, уведи меня прочь… Домой… домой… запри двери… пусть Петер сторожит у входа… Скорей отсюда, скорей!
Собрав все свои силы, старик пустился бежать от меня, как от хищного зверя. Опешив от изумления, мальчик испуганно смотрел то на меня, то на старика, а тот, не дожидаясь его помощи, потащил подростка прочь; они исчезли в дверях, и до меня донесся только лязг запоров.
Бежал и я прочь от поприща моих ужаснейших злодеяний, которые с еще небывалой живостью встали передо мной во время этой сцены, и вскоре я очутился в самой чаще леса. Измученный, я сел под деревом на мху; неподалеку был насыпан холмик, а на нем водружен крест. Усталость взяла свое, я уснул, а когда открыл глаза, то увидел, что возле меня сидит старик крестьянин; заметив, что я проснулся, он почтительно снял шапку и промолвил сердечно и простодушно:
– Эх, ваше преподобие, вы, как видно, пришли издалека и очень, должно быть, устали, а не то вы не уснули бы таким глубоким сном, да еще в таком жутком месте. Пожалуй, вы даже не знаете, какая тут приключилась беда?
Я подтвердил, что и в самом деле ничего об этом не знаю, ибо я паломник и возвращаюсь из чужой земли, Италии.
– А ведь это, – молвил крестьянин, – касается близко и вас и всех ваших братьев по ордену. По правде сказать, увидев, как вы тут сладко спите, я сел возле, чтобы уберечь вас от беды. Несколько лет назад здесь, говорят, зарезали капуцина. Во всяком случае некий капуцин пришел однажды к нам в деревню и, переночевав, отправился дальше в горы. В тот же самый день сосед мой пошел в глубокую лощину, что немного в стороне от Чертовой Скамьи, и вдруг услыхал пронзительный крик, чудно пронесшийся в воздухе. Он будто бы даже видел, но это уж нимало не похоже на правду, что некий человек сорвался вниз, в пропасть. Как бы то ни было, все мы, деревенские, сами не зная почему, подумали, уж не сбросил ли кто-нибудь в пропасть капуцина, и вот некоторые из нас отправились на место разыскивать тело бедняги и спускались как только можно было ниже, стараясь, однако, не очень-то рисковать. Нам ничего не удалось обнаружить, и мы посмеялись над соседом, когда он стал нас уверять, будто лунной ночью шел он по той же лощине и чуть не умер со страху, увидав нагого человека, что карабкался из Чертовой пропасти наверх. Ясное дело, это ему привиделось. Но потом до нас дошло, что тут, Бог весть почему, каким-то важным лицом убит капуцин и его труп сброшен в пропасть. Убили его вот на этом самом месте. Это я твердо знаю, и вот почему. Сидел я как-то тут, ваше преподобие, задумавшись и почему-то уставился вон на то дуплистое дерево. Как вдруг мне стало мерещиться, что из дупла торчит клок бурого сукна. Я так и подпрыгнул, кинулся туда и вытащил новехонькую капуцинскую рясу. На одном рукаве запеклось несколько капель крови, а на подкладке внизу было вышито имя "Медард". В простоте сердечной я решил продать рясу, а деньги истратить на помин души покойника, ведь у бедняги капуцина не было времени приготовиться к смерти и отдать отчет Господу Богу. Но когда я пришел на городской рынок, ни один старьевщик не брал рясы, и вблизи не было капуцинского монастыря; но вот наконец пришел человек, судя по одежде, лесник или охотник, и сказал, что ему как раз нужна ряса капуцина, и он щедро заплатил мне за мою находку. Я заказал почтенному нашему священнику отменную заупокойную обедню, а на этом вот месте, в память злой погибели его преподобия, поставил крест, не в пропасть же было его тащить. Смекаю, покойник этот вовсе не был праведником, иначе призрак его не бродил бы тут по временам; и вышло, что заупокойная обедня, которую отслужил наш деревенский священник, не больно-то помогла. Поэтому прошу вас, преподобный отец, как вернетесь вы в добром здравии с дороги, так отслужите мессу за упокой души брата вашего по ордену, Медарда. Обещайте мне это!..