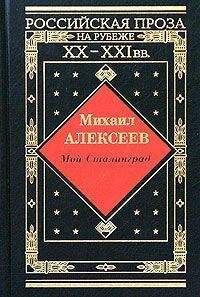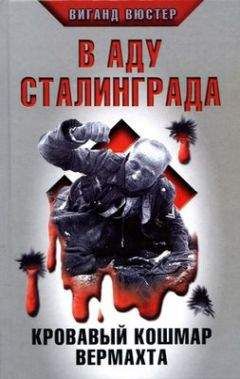Приказ, полученный мною, скорее, мог бы обрадовать меня, чем опечалить: он хоть и ненамного, но все-таки отодвигал тебя от переднего края, где, как известно, возможность умереть возрастает. Политотдел дивизии находился в трех-четырех километрах позади полков, пускай не в глубоком, но все-таки тылу. Но на душе не было и намека на какую-то там радость. Было поначалу муторно, сумрачно как-то на сердце. Полегче немного стало оттого, что, заменив Крупецкова, я могу не менять места своего прежнего пребывания, поскольку все полки дивизии находились на одинаковом от моей возлюбленной яблоньки расстоянии: такое разрешение я получил от начальника политотдела, вызвавшего меня для короткого «инструктажа». Из политотдела, расположившегося в глубоком овраге, у самой его вершины, я спустился вниз, к Бекетовке, вышел к Волге и, дождавшись сумерек, переправился на большой, покрытый дубовыми и тополиными деревьями остров, где преспокойно жил второй эшелон второго эшелона нашей дивизии. И не только нашей. У каждой такой дивизии под Сталинградом был не один тыл, а сразу два: ближний, прилепившийся к самому берегу реки с ее правой стороны и готовый в любой час улепетнуть на ее левую сторону, где находился дальний, второй эшелон тыла. Вот туда-то я и нацелился, поскольку там и разместился в больших палатках наш медсанбат, в котором, как мне сказали, лежал раненый Александр, Саша Крупецков. Пробирался я к нему не один, а в сопровождении Леонида Прицкера, инструктора политотдела по работе среди войск противника, – была и такая должность в штабе политотдела дивизии. Доставалась она по большей части шустрым ребятам еврейской национальности, поскольку они-то в основном и знали немецкий язык. У нас она досталась Лене Прицкеру, именно Лене – иначе его никто и не звал. Он и останется Леней, ежели суждено ему будет дожить до старости лет, как мне вот сейчас. Может даже случиться такое, что ему попадут на глаза эти мои строчки, и, уверен, он улыбнется, вспомнит далекое, не покидающее нас... Леонид Прицкер шел со мною не к немцам, как хаживал он к ним, чтобы поговорить «по душам», через рупор-усилитель из самого близкого к ним окопа. Мне нередко приходилось сопровождать его, как вот сейчас он меня, и присутствовать при Лёнином «собеседовании» с противником. Прицкер говорил, кричал в раструб усилителя громко и, как ему казалось, очень убедительно, чтобы немецкие солдаты поскорее покидали свои окопы и переходили на нашу сторону, то есть сдавались в плен. Из всей его пламенной речи, непонятной мне, я выуживал лишь слова: «Гитлер капут». Не знаю, прибавлял ли Леня к ним еще два других слова: «штык в землю». Может, и прибавлял, да вот только результат от них был один и тот же – никакого результата! Иной раз немцы что-то орали, частые их слова для меня были похожи на вороний клекот. Но немцы не ограничивались словесной перепалкой и, когда Леня уж очень расходился в своей агитации, пускали в нашу с ним сторону парочку-другую мин из своих сорокадевятимиллиметровых минометов [32]. Мы плюхались на дно окопа, плюхались прямо носами в грязь, а затем тихо уползали подобру-поздорову. А в следующую ночь, или через одну, выходили опять, но уже в другом месте. Случалось все-таки, – но очень уж редко – какой-то из немцев и сдавался в плен, перебирался на нашу сторону, и Леонид приписывал эту наиредчайшую удачу себе.
Саша Крупецков, увидев нас, конечно же, радостно удивился, потому что не ожидал, что к нему кто-то проберется из товарищей. Перво-наперво спросил:
– Значит, все-таки ты?
– А почему «все-таки»?
– Да я думал, что не согласишься.
Я хмыкнул.
– А разве в таких случаях спрашивают нашего с тобой согласия, друг ты мой Саша?!
– Да ведь это я попросил начальника, чтобы тебя...
– Но ты думаешь, я не догадывался, чья это «забота»?.. Ты вот скажи нам с Леней, надолго ли тут?
– Да нет! С недельку, может, подержат, а потом под зад коленкой. Не выпишут – сам убегу!
Леня Прицкер молча ожидал, когда мы наговоримся, но запас терпения у него оказался невелик, и он перебил нас, торопливо развязывая при этом голубую ленту, которой была перехвачена какая-то коробка:
– Ну, довольно речей! Глянь-ка, Сашок, это все тебе, праздничное. От наших политотдельцев!
Прямо к изголовью Крупецкова были выложены печенье, конфеты, две пачки «Казбека», того самого, что выдавался лишь генералам, да и то не всем. А затем, немного помедлив, завораживающе улыбаясь, Леня выхватил – уже из своего кармана, – как гранату, бутылку коньяка, точно такую же, какую преподнес мне Кузьмич (из чего я заключил, что добыта ими эта драгоценность в одном и том же месте).
– Сашка, черт! – уже почти орал Прицкер, высекая из нас, как кресалом, искры восторга. – Да ты только глянь... Это же грузинский, марочный! Ма-роч-ный! – повторил он, присаживаясь к Крупецкову прямо на постель, одною рукой обнимая раненого сослуживца, а другою продолжая удерживать бутылочку, с тем, очевидно, чтобы Саша полюбовался ею подольше, так, как она того заслуживает. И лишь потом сунул ее, зачем-то озираясь по сторонам, под подушку.
Под конец Прицкер все-таки предупредил поучительно:
– Но чтобы ты не зазнавался, комсомольский бог, сообщаю: не тебе одному сделано это предпраздничное подношение, а всем, без исключения, офицерам. Не забыли и про окопников, этих главных исполнителей войны, и они получили подарки. Не Бог весть какие, но получили. Ну, как вы думаете, друга мои, к чему бы это, а?
И опять я услышал – в какой уж раз! – эти постоянно произносимые в последнее время разными людьми слова: «К чему бы это?»
Ответ на этот волнующий всех нас вопрос был даден 19 ноября 1942 года небывалой силы громом, прогремевшим в неурочную для него пору над заснеженной уже степью. Раскаты его мы услышали ранним утром, и доносились они до нас, прижатых к берегам Волги, откуда-то с юго-запада; земля под нами отвечала на них легкой дрожью, хотя громовые волны докатывались сюда в значительной степени ослабленными большим расстоянием. Дрожь, переходящая в озноб, охватывала и нас самих, но это уже от внутреннего волнения, от радости, от восторга, от бурного всеобщего ликования, исторгавшего у многих из нас слезы. Люди плакали, иные даже исходились истерикой, и этих надо было приводить в чувство. Плакали, и никто не стыдился своих слез. Это были особые слезы. Они брали за самую душу не в одиночестве, а как бы в обнимку: те, что пролились или удержались на сердце солдата, от чего было еще больней, от небывало тяжких потерь, сейчас повстречались со слезами великой радости и, соединившись, переполнив сердце воюющего человека, вырывались наружу и безудержно текли по щекам и падали на молодой снежок, прожигая его до земли.
Мы, трое, вытряхнутые из своей норы под нашей яблонькой, тоже плакали. Стояли в обнимку, слушали величайшую симфонию в исполнении наших родных «катюш» и тяжелых орудий и хотели только одного, хотели того, чтобы гром этот не умолкал как можно дольше. И когда он умолк, я почувствовал, что сердце мое, как бы чего-то испугавшись, заторопилось, застучало невпопад, с перебоями, и стук его отдавался болью не только в груди, но и в висках. И я знал, – откуда эта тревога и откуда эта боль, – они хорошо знакомы фронтовикам. Мы имели не одну возможность убедиться, что артиллерийская подготовка, какой бы мощи она ни была и как бы долго ни продолжалась, не обязательно заканчивается нашим прорывом в глубину неприятельской обороны. Защитники Сталинграда, услышав канонаду на юго-западе, тотчас же в один голос сказали вслух и про себя: «Ну, началось!» Началось то, что так долго и с такой надеждой на спасение ожидалось, началось то, что Сталин в своем ответном послании Черчиллю назвал «началом нашей зимней кампании». И вот теперь мы слышали и поняли, что «час искупления» пробил, что начало ему положено, но как оно будет продолжаться, как будет развиваться?
Беспокойство усилилось, когда, перейдя в наступление одним днем позже, то есть 20 ноября, наша 64-я армия продвинулась своим левым флангом менее чем на один километр, а 29-я стрелковая не продвинулась и на десяток метров, застряла под Елхами. Поправить дело попытался, было, главный оперативник дивизии, уже хорошо знакомый нам бывший танкист капитан Григорий Баталов. Он опять раздобыл где-то маленький танк, пронырнул на нем в хутор, покружился там перед глазами немцев, ошеломленных, опешивших от такой дерзости русского танкиста, и, не видя за собою поддержки пехотинцев, повернул назад и с ходу «перепрыгнул» через противотанковый ров, прямо через головы тех самых пехотинцев, которых он, Баталов, и намеревался своей безумной отвагой увлечь за собой. Почему ему это не удалось, остается только гадать. Может быть, им, пехотинцам, тоже показалось, что в танке сидел умалишенный или русский камикадзе, кто знает...
Было еще две или три попытки овладеть Елхами, но оборачивались они для нас лишь большими потерями. Да и не могли они заканчиваться иначе: в течение нескольких месяцев немцы успели там укрепиться, разведать все цели на нашей стороне, обеспечить, насытить сполна все возможные и невозможные подступы к своей передовой огневыми средствами. И это был уже не дождь, а ливень огня, под который попадали подымавшиеся в атаку наши солдаты, и, чудом уцелевшие, уползали назад, в противотанковый ров, в тот самый, где сидел со своим минометным взводом Миша Лобанов. От пехотинцев я заглянул к нему. Вид и у него был такой же подавленный и растерзанный, как и у его соседей, стрелков и ручных пулеметчиков.