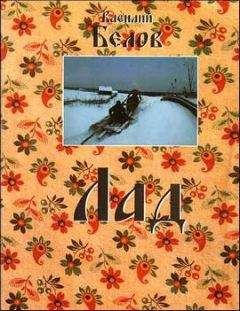Далекие языческие отголоски, словно из самого чрева земной истории, чуются в этих словах, так не созвучных времени христианства.
Трагическое противостояние полов, их несхожее равенство и единство чувствуются и в другой, еще дохристианской по своему духу песне:
Во лесу было, в орешнике,
Тут стоял, стоял вороной конь,
Трои сутки не кормленный был,
Неделюшку не поен стоял.
Тут жена мужа потребила,
Вострым ножиком зарезала,
На ноже-то сердце вынула.
На булатном встрепенулося,
А жена-то усмехнулася.
Во холодный погреб бросила,
Правой ноженькой притопнула,
Правый локоть на оконышко,
Горючи слезы за оконышко[136].
Судя по этим песням и при известной доле легкомыслия можно подумать, что женщины древней и средневековой Руси только и делали, что убивали своих мужей. (Кстати, как раз такой логикой и пользуются исследователи вульгарно-социологического, а также открыто демагогического толка. Кому чего хочется, тот то и выбирает, а иногда и выискивает в истории быта.) Но дело вовсе не в наших желаниях. Песня, например, историческая (былина, старина), как и сказка, выбирала выражения крайние, обряды гипертрофированные. Народное самосознание выражало свой подчеркнутый интерес к злому свершению образным преувеличением, зло изображалось в крайней своей концентрации в таком сгустке, который вызывает в слушателе ужас. Подобная образность также играла роль своеобразной прививки: лучше испытать и пережить зло песенное (сказочное, словесное), чем зло подлинное. Отсюда становится более понятным народный интерес к бал ладности и ярко выраженной сюжетности:
Как поехал я, молодец, во дороженьку,
Догоняют меня два товарища,
Во глаза мне, молодцу, надсмехаются,
Что твоя, брат, жена за гульбой пошла,
Что любимое дитя качать бросила,
Вороных она коней всех изъездила,
Молодых-то[137] людей всех измучила.
Воротился я, молодец, с пути-дороженьки,
Подъехал я, молодец, к широкому двору,
Молодая жена да вышла встретила,
Она в белой сорочке без пояса.
Обнажил я, молодец, саблю вострую,
Я срубил жене буйну голову,
Покатилась голова коню под ноги.
Я пошел, молодец, во конюшенку,
Вороные мои кони все сытешеньки,
Я пошел, молодец, в детску спаленку,
Любимое дитя лежит качается…
Ах зачем я послушал чужа разума!
Наталья Самсонова на подобный сюжет, но на другую мелодию пела так:
Ехали казаки, ехали казаки,
Ехали казаки со службы домой.
У этих казаков «на плечах погоны, на грудях ремни». Одного казака встречает мать и говорит, что у его жены родилось неурочное дитя. Казак губит жену, идет к колыбели и, по «обличью» узнавая в ребенке сына, кончает с собой.
В другой песне поется о муже, ушедшем в ночной разбой, о том, как он «по белу свету домой пришел».
…Послал он меня молоду
Отмывать платье кровавое.
Половину платья вымыла,
А другую в реку кинула,
Нашла братцеву рубашечку…
То же стремление к балладности явно просматривается и в более поздних песнях, таких, как «По Дону гуляет» (кстати, ужасно испорченной современным эстрадно-одиночным исполнением, записанным на пластинку), «Окрасился месяц багрянцем», «Помню, я еще молодушкой была» и т. д. В этих песнях уже чувствуется мощное влияние книжной поэзии. Сюжетная сентиментальность идет здесь рука об руку с мелодическим вырождением, что связано с исчезновением народной традиции и с общим упадком песен-но-хоровой культуры. Так, слова песни. «Во саду при долине», которая была очень популярна в 30-40-х годах, вызывают улыбку своей наивностю. Форма здесь словно бы нарочно противоречит глубоко народному содержанию. Однако упомянутое противоречие вполне может быть и традиционным. Это касается в основном игровых и хороводных песен, смысловое содержание которых выражено не столько словами, сколько ритмикой и мелодией. Такие песни сложены из традиционных образных заготовок: «Во чистом во поле на белой березе сидит птица пава». Береза в таких песнях легко заменяется кудрявой рябиной, птица пава соловьем и т. д. Бессюжетность допускается полная.
Анфиса Ивановна рассказывает, как уже в отрочестве девчонки деревни Тимонихи усаживались на бревнах и пели «Во поле березу». Примечательна концовка этой прекрасной, вначале почти сюжетной песни:
Охотнички выбегали,
Серых зайцев выгоняли…
При чем же здесь береза, которую «некому заломать»? — спросит иной читатель, ждущий от подобных песен назидательного сюжета и особого смысла? Но в том-то и дело, что действительно ни при чем. Такую песню надо петь, в крайнем случае слушать. Надо самому сидеть весною на бревнах и водить хоровод, чтобы постигнуть душу песни:
Чувель, мой чувель,
Чувель-навель, вель-вель-вель,
Еще чудо, перво-чудо,
Чудо родина моя!
Ритмический набор созвучий, совершенно непонятных (в самом деле: что такое этот «чувель»?), завершается каким-то странным выражением восторга, вполне логичным обращением к родине, названной перво-чудом. А какая это родина, малая или большая? — вновь спросит чудо-рационалист. Но на этот вопрос отвечать не стоит…
Песня связывает воедино словесное богатство народа с богатством музыкальным и обрядовым. Художественная щедрость песни настолько широка, что делает ее близкой родственницей, с одной стороны, сказке, бывальщине, пословице и преданию, с другой — обрядно-бытовому и музыкально-хореографическому выражению народного художественного гения.
ПРИЧИТАНИЕ.
Причет, плач, причитание- один из древнейших видов народной поэзии. В некоторых местах русского Северо-Запада[138] он сохранился до наших дней, поэтому плач, подобный плачу Ярославны из восьмисотлетнего «Слова о полку Игореве», можно услышать еще и сегодня.
Причетчицу в иных местах называли вопленицей, в других — просто плачеей. Как и сказители, они нередко становились профессионалами, однако причет в той или другой художественной степени был доступен большинству русских женщин[139].
Причитание всегда было индивидуально, и причиной его могло стать любое семейное горе: смерть близкого родственника, пропажа без вести, какое-либо стихийное бедствие.
Поскольку горе, как и счастье, не бывает стандартным, похожим на горе в другом доме, то и причеты не могут быть одинаковыми. Профессиональная плачея должна импровизировать, родственница умершего также индивидуальна в плаче, она причитает по определенному человеку — по мужу или брату, по сыну или дочери, по родителю или внуку. Традиционные образы, потерявшие свежесть и силу от частых, например, сказочных повторений, применительно к определенной семье, к определенному трагическому случаю приобретают потрясающую, иногда жуткую эмоциональность.
Выплакивание невыносимого, в обычных условиях непредставимого и даже недопускаемого горя было в народном быту чуть ли не физиологической потребностью. Выплакавшись, человек наполовину одолевал непоправимую беду. Слушая причитания, мир, окружающие люди разделяют горе, берут и на себя тяжесть потери. Горе в причитаниях словно разверстывается по людям. В плаче, кроме того, рыдания и слезы как бы упорядочены, их физиология уходит на задний план, страдание приобретает одухотворенность благодаря образности:
Ты вздымись-ко, да туча грозная,
Выпадай-ко, да сер-горюч камень,
Раздроби-ко да мать сыру землю,
Расколи-ко да гробову доску!
Вы пойдите-ко, ветры буйные,
Размахните да тонки саваны,
Уж ты дай же, да боже-господи,
Моему-то кормильцу-батюшке
Во резвы-то ноги ходеньице,
Во белы-то руки владеньице.
Во уста-то говореныще…
Ох, я сама-то да знаю-ведаю
По думам-то моим не здеется,
От солдатства-то откупаются,
Из неволи-то выручаются,
А из матушки-то сырой земли
Нет ни выходу-то, ни выезду,
Никакого проголосьица…
Смерть — этот хаос и безобразность — преодолевается здесь образностью, красота и поэзия борются с небытием и побеждают. Страшное горе, смерть, небытие смягчаются слезами, в словах причета растворяются и расплескиваются по миру. Мир, народ, люди, как известно, не исчезают, они были, есть и будут всегда (по крайней мере, так думали наши предки)…