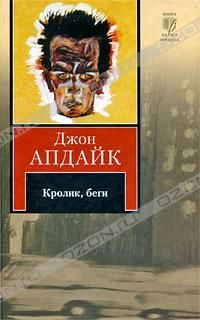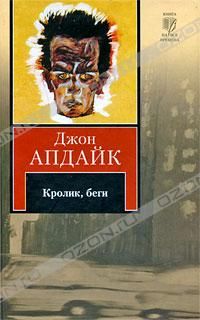— Что дальше? — кричит Ушлый. — Что еще тебе подставить, а? Сейчас! — Его руки расстегнули пуговицу на ширинке и взялись за пояс, но Нельсона в комнате уже нет.
Его рыдания доносятся сверху, замирая.
— О'кей, хватит, — говорит Кролик.
— Почитай еще немножко, — просит Ушлый.
— Тебя уж слишком заносит.
— Этот чертов твой парнишка считает, что эта сучка ему принадлежит.
— Прекрати называть ее сучкой.
— Человече, да разве не Христос определил ей быть такой? — со смешком произносит Ушлый.
— Ты омерзителен, — говорит ему Джилл, соединяя половинки разорванного платья.
Ушлый отбрасывает одну из половинок.
— Му-у.
— Гарри, да помоги же мне.
— Почитай книжку, Чак, я буду хорошо себя вести. Прочти то место, которое отмечено следующей закладкой.
Над их головой звучат шаги Нельсона. Если Кролик станет читать, можно будет не волноваться за мальчишку.
— «Увы» — здесь начинать?
— Можно здесь. Крошка Джилли, ты меня любишь, верно?
— «Увы, это огромное богатство, эта раззолоченная роскошь, это обилие комфорта, это отсутствие необходимости трудиться, эта жизнь в довольстве; это море изобилия — все это не было жемчужными вратами, какими казалось…»
— Ты — мои жемчужные врата, девочка.
— «Несчастный раб, едва прикрытый тоненьким одеялом, спал крепче на своих голых досках, чем алчный сластолюбец, возлежавший на пуховых подушках. Что другому хлеб насущный, то погрязшему в праздности — смертельный яд. В жирном и вкусном мясе таились невидимые злые духи, которые наделяли самообманщика-обжору болями и коликами, неуправляемыми страстями, отчаянными вспышками ярости, диспепсией, ревматизмом, люмбаго и подагрой, и всего этого у Ллойдов было предостаточно».
Поверх края страницы Кролик видит, как Ушлый сражается с Джилл — мелькают ее серые трусики, груди обнажены. В следующее мгновение Кролик видит ее улыбку. Ее мелкие зубы оскалены в беззвучном смехе — ей это нравится, нравится, что ее насилуют. Заметив, что он наблюдает за ней, Джилл вздрагивает, выбирается из-под Ушлого, запахивает разодранное платье и выбегает из комнаты. Ее шаги дробно звучат на лестнице. Ушлый растерянно моргает и со вздохом оглаживает большую подушку волос на голове.
— Прекрасно, — вздыхает он. — Еще один кусок, Чак. Прочти то место, где он начинает давать сдачи.
Его коричневая грудь сливается с бежевым диваном — поролон на нем накрыт пледом в зеленую, рыжую и красную клетку, таким затертым, что рисунок превратился в единый цвет, не имеющий названия.
— Видишь ли, мне пора наверх — я ведь завтра работаю.
— Ты волнуешься из-за своей маленькой куколки? Не волнуйся о ней. Сучка, человече, она как «Клинекс» — использовал и выбросил. — Не слыша никакой реакции, Ушлый добавляет: — Я же шучу, верно? Уж и позлить тебя нельзя? Ну ладно, давай вернемся к нашему чтению и прочтем следующую закладку. Беда с тобой, человече, что ты всегда женат. А женщине не интересен мужчина, который всего лишь женат, она хочет встретить душу, которую надо разгадать, верно? Если женщина перестает гадать, значит, она мертва.
Кролик опускается в кресло, обитое материей с серебряной нитью, и начинает читать:
— «Откуда во мне взялась смелость, необходимая, чтобы сразиться с человеком, который всего сорок восемь часов тому назад мог заставить меня от одного своего слова задрожать как лист в бурю, — я и сам не знаю; так или иначе, я решил побороться и — что еще отраднее — был преисполнен твердой решимости. Безумие борьбы овладело мной, и я вдруг обнаружил, что мои сильные пальцы крепко обхватили горло тирана и что я не думаю о последствиях, точно мы с ним стоим на равных перед законом. Я забыл даже, какого цвета этот человек. Я был гибок, как кошка, и готов противостоять ему, как бы он ни повернулся. Я парировал каждый его удар, хотя сам и не наносил их. Я строго держался обороны, не давая ему покалечить меня, но и не пытаясь покалечить его. Я несколько раз бросал его на землю, хотя бросить на землю собирался он меня. Я держат его так крепко за горло, что его кровь залилась мне под ногти. Он держал меня, а я держал его».
— Ох, до чего же я люблю это место, оно хватает меня за печенку, убивает меня, — говорит Ушлый и приподнимается на локтях, так что его тело оказывается как раз напротив тела Кролика. — Почитай еще. Ну немножко.
— Мне надо наверх.
— Пропусти пару страниц, перейди к тому месту, которое отмечено у меня двойной чертой.
— А почему ты сам не хочешь читать?
— Это не то же самое, верно? Когда читаешь сам себе. Каждый школьник знает — это не то же самое. Да ну же, Чак. Я же веду себя хорошо, верно? Не причиняю никаких хлопот, я Том преданный, так брось же Тому косточку, почитай. Я сейчас сниму с себя все, хочу слышать этот кусок всеми моими порами. Пропой его, человече. Да ну же. Начни с того места, где говорится: «Человек бессильный…» — И снова повторяет: — «Человек бессильный…» — И теребит пряжку своего пояса.
— «Человек бессильный, — уставив глаза в книгу, читает Кролик, — лишен главного человеческого качества — чувства собственного достоинства. Так уж устроена человеческая натура, что люди не могут чтить беспомощного человека, хотя могут его жалеть, но даже и жалеть не могут долго, если тот не проявит признаков силы».
— Да, — говорит Ушлый, и расплывчатое пятно, каким он видится Кролику, перекатывается по дивану, что-то белое мелькает поверх белизны печатной страницы.
— «Лишь тот, — читает Кролик, и слова кажутся ему огромными, каждое слово как черная кадушка, в которой эхом отдается его голос, — способен понять влияние этого сражения на мой дух, кто сам прошел через нечто подобное или отважился противостоять несправедливости и жестокости агрессивного тирана. Кови был тираном и притом трусливым. Дав ему отпор, я почувствовал себя так, как никогда прежде».
— Да, — доносится голос Ушлого из невидимой пропасти за прямоугольником страницы.
— «Это было воскрешением из темной и зловонной могилы рабства, воспарением к небесам относительной свободы. Я больше не был подобострастным трусом, дрожавшим от хмурого взгляда брата — земляного червя, — мой долго пресмыкавшийся дух стал независимым. Я достиг того рубежа, когда перестал бояться смерти». Подчеркнуто.
— О да. Да.
— «Такое душевное состояние сделало меня фактически свободным человеком, хотя формально я по-прежнему оставался рабом. Если раба нельзя бить, значит, он больше чем наполовину свободен».
— А-минь.
— «Он обладает достоянием, которое надо защищать, большим, как его мужественная душа, и ему действительно дана „власть на земле“».
— Слышите! Слышите!
— «С того времени и до того, как я освободился от рабства, меня никогда по-настоящему не били кнутом. Несколько раз пытались, но всегда безуспешно. Вот синяки бывали, но описанный мною случай положил конец жестокому обращению, которому я подвергался как раб».
— Ох, и какой же ты у нас симпатичный ниггер, — нараспев произносит Ушлый.
Подняв от книги глаза, Кролик видит, что на диване нет больше белого пятна, все одинаково темное, только это темное пятно ритмично колышется, словно хочет всосать его в себя. Его глаза не смеют проследить за кистью, за живой линией ритмично движущейся руки, на которую падает свет. Длинный угорь, хватающий корм. Кролик встает и направляется вон из комнаты, отбросив на ходу книгу, хотя глаза негра на обложке, будто раскаленные угольки, следят за ним, когда он идет по жесткому ковру, поднимается вверх по натертой лестнице в царство белых, где на лестничной площадке горит лампочка под матовым абажуром. Сердце у Кролика подпрыгивает. Он унес ноги. Едва-едва.
На первом этаже свет от лампы с основанием из дерева-плавника подсвечивает снизу маленький клен, его листья кажутся красными, как пальцы, прикрывающие карманный фонарик. А здесь, наверху, пожухлая крона дерева наполовину затеняет окно их спальни. В постели Джилл поворачивается к Кролику, бледная и холодная как лед.
— Обними меня, — говорит она. — Обними меня, обними, обними. — Так часто и монотонно повторяет она, что он пугается.
Женщины — они безумны, они вобрали в себя древнее безумие, он держит в объятиях ветер. Он чувствует: Джилл хочет, чтобы он овладел ею любым способом, пусть без удовольствия, просто чтобы пригвоздить ее собой. Кролик был бы рад это сделать, но он не в состоянии преодолеть стену страха, отвращения, возникшую между ними. Она словно русалка, зовущая его из-под толщи воды. А он напряженно плывет по поверхности, боясь утонуть. Книга, которую он читал вслух, мучает его, вызывая видения безграничной бедности умерших поколений, навеки погребенных пыток и утраченных причин. Вставать, идти на работу — ничто больше к этому не побуждает, нет причины что-либо делать, нет причины не делать ничего, и нечем дышать, кроме протухшего воздуха, закупоренного в пустых церквях, нечем вдохновляться; он в узком колодце, влажные стены сдавливают его и парализуют, — нет, это Джилл прижалась к нему, пытаясь согреться, хотя ночь стоит жаркая. Он спрашивает ее: