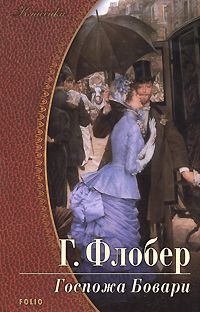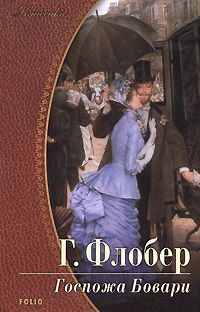— У тебя нет!..
Она несколько раз повторила:
— У тебя нет!.. Мне бы следовало избавить себя от этого последнего унижения. Ты никогда не любил меня! Ты не лучше других!
Она выдавала, губила себя.
Родольф прервал ее и стал уверять, что он сам «в стесненном положении».
— Ах, как мне тебя жаль! — отвечала Эмма. — Да, очень жаль!..
И она задержала взгляд на карабине с насечкой, который блестел на щите, обтянутом сукном.
— Но тот, кто беден, не отделывает приклад ружья серебром! Не покупает часов с перламутровой инкрустацией, — продолжала она, показывая на часы работы Буля, — не заводит хлыстов с золотыми рукоятками (она потрогала эти хлысты), не вешает на часы брелоков! О, у тебя ни в чем нет недостатка! У тебя в комнате есть даже поставец с ликерами! Ты любишь себя, ты хорошо живешь, у тебя замок, ферма, леса, у тебя псовая охота, ты ездишь в Париж… Ах, даже вот это, — воскликнула она, хватая с камина пару запонок, — даже малейшую из этих безделушек можно превратить в деньги!.. О, мне не надо! Оставь себе.
И она так отбросила запонки, что они ударились об стену и разорвалась их золотая цепочка.
— А я… Я бы тебе все отдала, я бы все продала! я бы работала на тебя своими руками, я бы милостыню собирала по дорогам за одну твою улыбку, за один взгляд, за то, чтобы услышать от тебя спасибо… А ты спокойно сидишь в кресле, словно мало еще ты принес мне страданий! Знаешь ли, что если б не ты, я могла бы быть счастливой! Кто тебя заставлял?.. Или, может быть, это было пари? Но ведь ты любил меня, ты сам так говорил!.. И даже только что, сейчас… Ах, лучше бы ты прогнал меня! У меня руки еще не остыли от твоих поцелуев, вот здесь, на этом ковре, ты у моих ног клялся мне в вечной любви… Ты заставил меня поверить: ты два года держал меня во власти самой великолепной и сладостной мечты!.. А помнишь ты наши планы путешествия? О, письмо твое, письмо! Оно истерзало мне сердце! А теперь, когда я снова прихожу к нему, — к нему, богатому, счастливому, свободному! — прихожу и умоляю о помощи, которую оказал бы мне первый встречный, когда я заклинаю его, когда я вновь приношу ему всю свою нежность, — он отталкивает меня, потому что это обойдется ему в три тысячи франков!
— У меня нет денег! — отвечал Родольф с тем непоколебимым спокойствием, которым, словно щитом, прикрывается сдержанный гнев.
Эмма вышла. Стены качались, потолок давил ее; спотыкаясь о кучи опавшего листа, разносимые ветром, она снова пробежала длинную аллею. Наконец она добралась до рва, устроенного перед решеткой; она так торопилась открыть калитку, что обломала ногти о засов. Отойдя еще шагов сто, она остановилась, задыхаясь, чуть не падая. И, обернувшись назад, снова увидала бездушный господский дом, его парк, сады, три двора, все окна по фасаду.
Она вся оцепенела, она ощущала себя только по биению сердца, — его стук казался ей оглушительной музыкой, разносящейся по всему полю. Земля под ногами была податливее воды, борозды колыхались, как огромные бушующие коричневые волны. Все мысли, все воспоминания, какие только были в ней, вырвались сразу, словно тысячи огней гигантского фейерверка. Она увидела отца, кабинет Лере, комнату в гостинице «Булонь», другой пейзаж… Она сходила с ума, ей стало страшно, и она кое-как заставила себя очнуться, — правда, не до конца: она все не могла вспомнить причину своего ужасного состояния — денежные дела. Она страдала только от любви, она ощущала, как вся душа ее уходит в это воспоминание — так умирающий чувствует в агонии, что жизнь вытекает из него сквозь кровоточащую рану.
Спускалась ночь, летали вороны.
И вдруг ей показалось, что в воздухе вспыхивают огненные шарики, словно светящиеся пули, а потом сжимаются в плоские кружки и вертятся, вертятся, и тают в снегу, между ветвями деревьев. На каждом появлялось посредине лицо Родольфа. Они все множились, приближались, проникали в нее; и вдруг все исчезло. Она узнала огоньки домов, мерцавшие в дальнем тумане.
И вот истинное положение открылось перед ней, как пропасть. Она задыхалась так, что грудь ее еле выдерживала. Потом в каком-то героическом порыве, почти радостно, бегом спустилась с холма, миновала коровий выгон, тропинку, дорогу, рынок — и очутилась перед аптекой.
Там никого не было. Эмма хотела туда проникнуть; но на звонок мог кто-нибудь выйти; она скользнула в калитку и, задерживая дыхание, цепляясь за стены, добралась до дверей кухни, где на плите горела свечка. Жюстен, без пиджака, понес в комнаты блюдо.
— А, они обедают. Надо подождать.
Жюстен вернулся. Она постучалась в окно.
Он вышел на порог.
— Ключ… от верха, где лежит…
— Что?
И он глядел на нее, поражаясь бледности лица, белым пятном выделявшегося на черном фоне ночи. Она казалась ему изумительно прекрасной, величественной, как видение; не понимая, чего она хочет, он предчувствовал что-то ужасное.
Но она быстро ответила тихим, нежным, обезоруживающим голосом:
— Я так хочу! Дай ключ.
Сквозь тонкую перегородку из столовой доносилось звяканье вилок по тарелкам.
Эмма солгала, будто хочет травить крыс: они мешают ей спать.
— Надо бы сказать хозяину.
— Нет! Не ходи туда!
И безразлично добавила:
— Не стоит, я скажу потом. Ну, посвети мне!
Она вошла в коридор, где была дверь в лабораторию. На стене висел ключ с этикеткой «Фармакотека».
— Жюстен! — чем-то обеспокоившись, закричал Омэ.
— Идем!
И Жюстен пошел за ней.
Ключ повернулся в скважине, и Эмма двинулась прямо к третьей полке, — так верно вела ее память, — схватила синюю банку, вырвала из нее пробку, засунула руку внутрь и, вынув горсть белого порошка, тут же принялась глотать.
— Перестаньте! — закричал, бросаясь на нее, Жюстен.
— Молчи! Придут…
Он был в отчаянии, он хотел звать на помощь.
— Не говори никому, а то за все ответит твой хозяин.
И, внезапно успокоившись, словно в безмятежном сознании исполненного долга, она ушла.
Когда Шарль, потрясенный вестью об описи имущества, поспешил домой, Эмма только что вышла. Он кричал, плакал, упал в обморок, но она не возвращалась. Где могла она быть? Он посылал Фелиситэ к Омэ, к Тювашу, к Лере, в трактир «Золотой лев» — всюду, а когда его волнение на секунду затихало, вспоминал, что репутация его погибла, состояние пропало, будущее Берты разбито. Но что же было тому причиной?.. Ни слова в ответ! Он ждал до шести часов вечера. Потом не мог больше сидеть на месте, вообразил, что Эмма уехала в Руан, вышел на большую дорогу, прошагал с пол-льё, никого не встретил, подождал еще и вернулся.
Она была дома.
— Что случилось?.. В чем дело?.. Объясни!..
Эмма села за свой секретер, написала письмо, поставила месяц, число, час и медленно запечатала. Потом торжественно сказала:
— Ты это прочтешь завтра; а до тех пор, прошу тебя, не задавай мне ни одного вопроса!.. Нет, ни одного!
— Но…
— Ах, оставь меня!
Она легла на кровать и вытянулась во весь рост.
Ее пробудил терпкий вкус во рту. Она увидела Шарля и снова закрыла глаза.
Эмма с любопытством вслушивалась в себя, старалась различить боль. Но нет, пока ничего не было. Она слышала тиканье стенных часов, потрескиванье огня, дыхание Шарля, стоявшего у изголовья.
«О, какие это пустяки — смерть! — думала она. — Вот я засну, и все будет кончено».
Она выпила глоток воды и отвернулась к стене.
Отвратительный чернильный вкус все не исчезал.
— Пить!.. Ох, пить хочу! — простонала она.
— Что с тобой? — спросил Шарль, подавая стакан воды.
— Ничего… Открой окно… душно!
И вдруг ее стало рвать — так внезапно, что она едва успела выхватить из-под подушки носовой платок.
— Унеси его! — быстро проговорила она. — Выбрось!
Шарль стал расспрашивать; Эмма не отвечала. Она лежала совершенно неподвижно, боясь, что от малейшего движения ее может снова стошнить. И чувствовала, как от ног поднимается к сердцу ледяной холод.
— А, начинается! — шепнула она.
— Что ты говоришь?
Она мягким, тоскливым движением поворачивала голову из стороны в сторону, и рот ее был открыт, словно на языке у нее лежало что-то очень тяжелое. В восемь часов снова началась рвота.
Шарль разглядел на дне таза приставшие к фарфору белые крупинки какого-то порошка.
— Странно! Удивительно! — повторял он.
Но она громко сказала:
— Нет, ты ошибаешься.
Тогда он осторожно, почти ласкающим движением руки тронул ей живот. Она громко вскрикнула. Он в ужасе отскочил.
Потом Эмма стала стонать, сначала тихо. Плечи ее судорожно содрогались, она стала белее простыни, за которую цеплялись ее скрюченные пальцы. Пульс бился теперь неровно, его еле удавалось прощупать.
Пот каплями катился по ее посиневшему лицу, оно казалось застывшим в какой-то металлической испарине. Зубы стучали, расширенные зрачки смутно глядели кругом; на вопросы Эмма отвечала только кивками; два или три раза она даже улыбнулась, но понемногу стоны ее стали громче. Вдруг у нее вырвался глухой вопль. Она стала говорить, будто ей лучше, будто скоро она встанет. Но тут начались судороги.