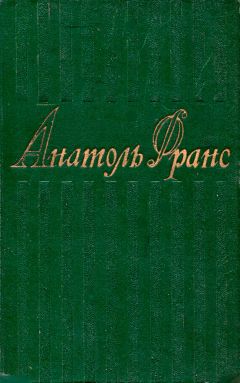— Мой муж, князь Трепов, — представила она его. И, указав ему на меня, сказала: — Господин Сильвестр Бонар, член Французской академии.
Князь поклонился, чуть поведя плечами. Плечи у него были высокие, широкие и мрачные.
— Друг мой, я огорчен, что прерываю ваш разговор с академиком Бонаром, — сказал он, — но повозка готова, и нам необходимо поспеть в Мелло засветло.
Она встала, взяла розы, поднесенные хозяином, и вышла из трактира. Я последовал за нею, князь в это время присматривал за упряжкой мулов и пробовал, надежны ли подпруги и ремни. Остановившись под навесом из виноградных лоз, она сказала мне с улыбкой:
— Мы едем в Мелло; это отвратительная деревушка в шести милях от Джирдженти, и вам никогда не догадаться, зачем мы туда едем. Не пытайтесь. Мы едем за спичечным коробком. Димитрий собирает спичечные коробки. Он перепробовал все виды коллекций: собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки. Но теперь его интересуют только спичечные коробки — картонные коробочки с хромолитографиями. Мы уже собрали пять тысяч двести четырнадцать различных образцов. Найти некоторые из них нам стоило огромного труда. Так, например, мы знали, что в Неаполе выделывались коробки с портретами Гарибальди и Мадзини[131], но эти коробки полиция изъяла, а фабриканта посадили в тюрьму. Благодаря усиленным расспросам и розыскам мы нашли такую коробочку у одного крестьянина, который продал нам ее за сто лир и донес на нас полиции. Сбиры[132] осмотрели наш багаж. Коробочки они там не нашли, но драгоценности мои забрали. С той поры и у меня явился интерес к этой коллекции. Чтобы ее пополнить, мы летом едем в Швецию.
Я испытывал (следует ли говорить об этом?) какую-то сочувственную жалость к этим упорным коллекционерам. Я бы, конечно, предпочел, чтобы супруги Треповы собирали в Сицилии античные мраморы, расписные сосуды или же медали. Мне бы хотелось, чтобы у них был интерес к развалинам Агригента[133] и поэтическим преданиям Эрикса[134]. Но в конце концов они составляли коллекцию, они были моими собратьями, и мог ли я подсмеиваться над ними, не осмеивая слегка и самого себя?
— Теперь вы знаете, — добавила она, — зачем мы путешествуем по этой ужасной стране.
От такого эпитета моя симпатия угасла, я даже почувствовал негодованье.
— Эта страна не ужасна, сударыня, — ответил я. — Эта земля — земля славы. Красота нечто столь благородное, столь величественное, что векам варварства не удается истребить ее совсем — чтоб не осталось от нее следов, достойных преклонения. Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами[135], и греческая Муза, огласившая своим божественным стихом Менал и Аретузу, еще поет мне здесь — на оголенной горе и в этом высохшем ручье. Да, сударыня, в последние времена земли, когда наш шар, необитаемый, подобно теперешней луне, покатится в пространстве бледным трупом, земля, несущая развалины Селинунта, сохранит, среди всеобщей смерти, остатки красоты, и тогда по крайности, тогда не будет празднословных уст, хулящих это одинокое величие.
Едва успев произнести эти слова, я почувствовал их глупость. «Бонар, — сказал себе я, — ты старый человек, изживший жизнь над книгами, ты не умеешь разговаривать с женщинами». По счастью для меня, все это рассуждение было понятно княгине Треповой не более, чем греческий язык.
Она мне ласково ответила:
— Димитрию скучно, и мне скучно. У нас есть спичечные коробки! Но и спичечные коробки надоедают. Когда-то у меня бывали горести, и тогда я не скучала; горести — это большое отвлечение.
Смягчившись перед духовный нищетой этой красивой женщины, я сказал:
— Мне жаль, что у вас нет ребенка, сударыня. Будь он у вас, была бы у вас цель жизни, ваши мысли стали бы серьезней и в то же время утешительней.
— У меня есть сын, — ответила она. — Мой Жорж большой, почти мужчина: ему уж восемь лет! Я люблю его не меньше, чем когда он был еще малюткой, но это все уже не то.
Она дала мне розу из своего букета, улыбнулась и сказала, садясь в повозку:
— Вы не можете себе представить, господин Бонар, как я рада, что встретилась с вами. Надеюсь, мы увидимся в Джирдженти.
Джирдженти, в тот же день
Я устроился, как мог, в моей lettica. Lettica — повозка без колес, или, если угодно, носилки, стул, который несут два мула, один впереди, другой сзади. Способ старинный. Изображение таких носилок мне попадалось в рукописях XIV века. Тогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь подобные носилки понесут меня из Монте-Аллегро в Джирдженти. Нельзя ручаться ни за что.
В течение трех часов мулы позванивали колокольчиками и постукивали копытами об известковую землю. Тем временем, пока в просветах живых изгородей из алоэ по обе стороны дороги медлительно тянулись пустынные виды, напоминавшие Африку, я мечтал о рукописи клирика Жана Тумуйе и жаждал ее с простодушной горячностью, умилявшей меня самого, — так много детской невинности и трогательного ребячества я находил в этом желании.
Запах розы, сильнее ощутимый к вечеру, напомнил мне о княгине Треповой. На небе засияла Венера. Я мечтал. Княгиня Трепова — женщина красивая, крайне простая и очень близкая к природе. У ней кошачьи понятия. Я не заметил в ней и признака какой-нибудь благородной любознательности, которая так волнует мыслящие души. И тем не менее она по-своему выразила глубокую мысль: «Когда есть горести, то не скучаешь». Значит, ей известно, что в этом мире самым надежным развлеченьем являются для нас тревоги и страдание. Великих истин не открывают без горя и труда. Через какие ж испытания дошла княгиня Трепова до этой истины?
Джирдженти, 1 декабря 1869 года
Наутро я проснулся в Джирдженти, у Гелианта. Гелиант был некогда богатым гражданином в древнем Агригенте. Он славился щедростью, как и роскошью, и наделил родной город большим количеством даровых гостиниц. Гелиант умер тысяча триста лет тому назад, а теперь среди цивилизованных народов не существует дарового странноприимства. Но имя Гелианта стало названием гостиницы, где удалось мне благодаря усталости проспать всю ночь.
Современный Джирдженти построил над Акрополем античного Агригента небольшие и тесно сдвинутые домики, а среди них высится мрачный испанский собор. Из окна мне виден на половине склона к морю белый ряд полуразрушенных храмов. Лишь в этих развалинах есть некоторая жизненность. Все остальное — пустынно. Вода и жизнь покинули Агригент. Вода, божественная Нестис агригентца Эмпедокла[136], так необходима живому существу, что вдали от рек и родников нет жизни. Но порт Джирдженти, находящийся от города в трех километрах, ведет большую торговлю. «Итак, — думал я, — в этом-то угрюмом городе, на этой крутой скале находится рукопись клирика Жана Тумуйе». Я попросил указать мне дом синьора Микеланджело Полицци и направился туда.
Синьора Полицци я застал в то время, когда он, с головы до ног одетый во все желтое, варил в сотейнике сосиски. Увидав меня, он выпустил ручку сотейника, поднял руки вверх и вскрикнул от восторга. Угреватое лицо, нос горбом, выдающийся подбородок и круглые глаза придавали этому маленькому человечку необычайно выразительный облик.
Он назвал меня превосходительством, сказал, что этот день отметит белым камешком, и усадил меня на стул. Комната, где мы находились, служила одновременно кухней, гостиной, спальней, мастерской и кладовой. Тут были горны, кровать, холсты, мольберт, бутылки и красный перец. Я взглянул на картины, развешанные по стенам.
— Искусство! Искусство! — воскликнул синьор Полицци, снова воздевая руки к небу. — Искусство! Какое величие! Какое утешение! Я живописец, ваше превосходительство!
И показал мне незаконченного святого Франциска, который мог бы таким же и остаться без всякого ущерба для искусства и религии. Затем пришлось мне осмотреть несколько старинных картин получше, но реставрированных, как мне казалось, довольно грубо.
— Я восстанавливаю старинные картины, — сказал он мне. — О! Старые мастера! Какая душа! Какой гений!
— Значит, это верно: вы одновременно и антиквар, и живописец, и торговец винами? — спросил я.
— И весь к услугам вашего превосходительства. Сейчас у меня есть такое zucco[137] что каждая его капля — пламенная жемчужина. Я хочу угостить им вашу милость.
— Я ценю сицилийские вина, но посетил вас, синьор Полицци, не ради бутылок.
Он:
— Значит, ради картин. Вы любитель. Для меня огромная радость принимать любителей живописи. Сейчас я покажу вам шедевр Монреалезе; да, ваше превосходительство, его шедевр: «Поклонение пастухов»! Жемчужина сицилийской школы!