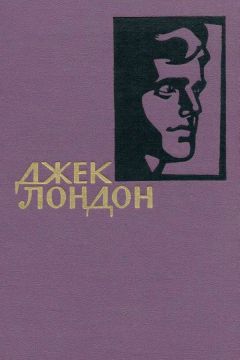Теперь, думается, уже ясно, что я хочу сказать. Дух — вот реальность, которая не гибнет. Я — дух, и я существую.
Я, Даррел Стэндинг, обитатель многих телесных оболочек, прибавлю еще какое-то количество строк к этим воспоминаниям и отправлюсь дальше. Форма, то есть мое тело, распадется на части, после того как я буду добросовестно повешен за шею, и вскоре в мире материи от этой формы не останется и следа. Но в мире духа останется нечто — останется память обо мне. У материи нет памяти, ибо ее формы быстротечны и все, что претерпевает эта форма, гибнет вместе с ней.
Еще несколько слов, прежде чем я возвращусь к моему повествованию. Во всех моих возвращениях сквозь мрак времени к другим существованиям, которые были когда-то моими, мне ни разу не удавалось направить свой путь к определенной цели.
Так, например, прежде чем я получил возможность возвратиться к мальчику Джесси в Нефи, мне пришлось испытать еще немало различных судеб, которые были когда-то моей судьбой. Пожалуй, после того как я покинул Джесси в Нефи, я возвращался к нему не один десяток раз, начиная еще с того времени, когда он был совсем малышом и жил в арканзасском поселке. И не меньше десятка раз я заново переживал то, что случилось после стоянки в Нефи. Описывать все это было бы пустой тратой времени. И потому без ущерба для правдивости моего повествования я опущу многое, что представляется мне смутным, неясным и повторяющимся, и опишу только факты, в том виде, как я собрал их — разрозненные во времени — воедино и оживил в моей памяти.
Задолго до рассвета лагерь в Нефи был уже на ногах. Волов и лошадей погнали на пастбища и к водопою. Пока мужчины расцепляли фургоны и откатывали их в сторону, чтобы удобнее было запрягать, женщины готовили сорок завтраков у сорока костров.
Ребятишки, иззябшие в предутренней прохладе, жались поближе к огню. Кое-где рядом с ними дремали дозорные из ночного караула в ожидании кружки кофе.
Чтобы поднять такой большой караван, как наш, требуется время, и тут спешкой не поможешь. Солнце уже с час как стояло в небе, и нестерпимый зной давно разлился над землею, когда наши фургоны, покинув селение, покатили по безлюдным пескам. Ни одна живая душа не вышла нас проводить. Все предпочли остаться в своих лачугах, и от этого в нашем отъезде из Нефи было что-то столь же зловещее, как и в нашем появлении там накануне вечером.
И снова час за часом — испепеляющая жара, удушливая пыль, пески, редкие кусты, проклятая Богом земля. Вокруг ни поселений, ни стад, ни изгородей — ни единого признака человека.
К ночи мы сделали привал, снова расположив наши фургоны кольцом у русла пересохшего ручья. В его влажном дне мы вырыли много ям, в которые постепенно просочилась вода.
О нашем дальнейшем путешествии у меня сохранились довольно отрывочные воспоминания. Мы столько раз делали привал, ставя при этом фургоны в круг, что в моем детском мозгу этот наш путь после ночевки в Нефи запечатлелся как нечто совершенно бесконечное. Но над всем преобладало никогда не покидавшее всех нас чувство, что мы движемся навстречу гибели, неотвратимой, как судьба.
Мы делали около пятнадцати миль в день. Я знаю это потому, что, по словам моего отца, до Филмора — следующего поселения мормонов — было шестьдесят миль, а мы сделали на этом пути три остановки и, следовательно, добрались туда за четыре дня.
А до последнего привала, который остался у меня в памяти, мы добирались из Нефи около двух недель.
В Филморе жители были настроены враждебно, как и повсюду на нашем пути от Соленого Озера. Они поднимали нас на смех, когда мы просили продать нам провизии, и осыпали нас бранью, называя миссурийцами.
Когда мы въехали в это селение, состоявшее из двенадцати домов, мы заметили, что перед самым большим домом стоят две верховые лошади, грязные, взмыленные, едва державшиеся на ногах. Старик с выгоревшими на солнце волосами, в куртке из оленьей кожи, о котором я уже упоминал и который, по-видимому, был помощником моего отца, подъехал к нашему фургону и кивком указал на этих загнанных лошадей.
— Не пожалели коней, капитан, — пробормотал он вполголоса. — А из-за кого, скажи на милость, понадобилось им устраивать скачку, если не из-за нас?
Но мой отец уже обратил внимание на этих лошадей, что не укрылось от моих зорких глаз. Я видел, как загорелся его взгляд, как сжались губы и глубже залегли морщины на запыленном лице. Вот и все. Но я сопоставил одно с другим и понял: эти две взмыленные лошади — еще один признак грозящей нам беды.
— Как видно, боятся оставить нас без присмотра, Лаван, — сказал мой отец и не прибавил больше ни слова.
Там, в Филморе, я впервые увидел человека, которого мне потом довелось увидеть еще не раз. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет, все в нем дышало здоровьем и недюжинной силой — силой не только тела, но и духа. В отличие от большинства мужчин, которых я привык видеть вокруг, он не носил бороды, а двух-трехдневная щетина на подбородке была с сильной проседью. У него был необыкновенно большой рот с тонкими, плотно сжатыми губами, создававшими впечатление, что у него не хватает передних зубов. Нос у него был большой, широкий, массивный. Лицо — квадратное, с торчащими скулами, тяжелым подбородком и высоким, умным лицом. Глаза у него были небольшие, но мне еще никогда не доводилось видеть таких ярко-синих глаз.
Впервые я заприметил этого человека на мельнице в Филморе.
Отец и еще несколько мужчин отправились туда, чтобы купить муки, а я, снедаемый любопытством, презрев запрет матери, потихоньку увязался за ними: очень уж хотелось мне увидеть еще кого-нибудь из наших врагов. Там их оказалось человек пять-шесть, и тот, о ком я говорю, был среди них. Они все время стояли возле мельника, пока наши с ним разговаривали.
— Ты видел этого безбородого негодяя? — спросил Лаван отца, когда, покинув мельницу, они возвращались на стоянку.
Отец кивнул.
— Так вот, это Ли [106], — продолжал Лаван. — Я видел его в городе Соленого Озера. Это мерзавец, каких мало. Все они говорят, что у него девятнадцать жен и пятьдесят детей. И притом он еще свихнулся на религии. Ты мне скажи, чего ради гоняется он за нами по этой забытой Богом стране?
Усталые, измученные, мы день за днем медленно брели навстречу своей судьбе. Крошечные поселения, разбросанные среди пустыни, там, где была вода и сносная почва, отстояли друг от друга иногда на двадцать миль, а иногда на пятьдесят. Между ними расстилались солончаки и сухие пески. И в каждом селении наши мирные попытки купить провизию оканчивались неудачей.
Нас встречал грубый отказ.
— А кто из вас продал нам провизии, когда вы прогнали нас из Миссури? — задавали они нам вопрос. Совершенно бесполезно было объяснять им, что мы не из Миссури, а из Арканзаса. Да, мы были из Арканзаса, но они упрямо твердили, что мы из Миссури. В селении Бивер, расположенном в пяти днях перехода к югу от Филмора, мы снова увидели Ли. И снова перед одним из домов стояли взмыленные лошади. Но в Пероване Ли не было.
Последнее поселение на нашем пути называлось Сидар-Сити. Лаван, которого высылали вперед, возвратился и сообщил свои наблюдения отцу. Привезенные им вести были многозначительны.
— Когда я въезжал в поселок, капитан, я видел Ли — он скакал оттуда как бешеный. И в этом поселке что-то многовато верховых.
Однако, когда мы расположились там на привал, все обошлось мирно. Нам только отказались продать провизию, но нам никто не угрожал. Женщины и дети не выглядывали из своих домов, а мужчины если и появлялись поблизости, то не заходили к нам на стоянку и не задевали нас, как в других селениях.
Там, в Сидар-Сити, умер ребенок Уайнрайтов. Я помню, как рыдала миссис Уайнрайт, умоляя Лавана достать хоть немного коровьего молока.
— Молоко может спасти ему жизнь, — твердила она. — А у них есть молоко. Я видела, я сама видела их коров. Прошу тебя, пойди к ним, Лаван! Попроси, попытайся. Тебе ведь это не трудно. Ну, не дадут — только и всего. Но они дадут. Скажи им, что это для ребенка, для маленького ребенка! Женщины-мормонки — такие же матери, как мы, у них есть сердце. Они не откажут грудному ребенку в чашке молока.
И Лаван пошел. Но, как рассказывал он потом отцу, ему не удалось увидеть ни одной мормонки. Он видел только мужчин, и они прогнали его прочь.
Это было последнее поселение мормонов. Дальше простиралась огромная пустыня, а за ней — сказочная страна, страна наших грез — Калифорния. На рассвете, когда наши фургоны покидали селение, я, сидя на козлах рядом с отцом, слышал, как Лаван дал выход своим чувствам. Мы проехали с полмили и переваливали через гребень невысокого холма, за которым должен был скрыться с глаз Сидар-Сити, и тут Лаван, повернув коня, привстал на стременах. Он остановил коня у свежезасыпанной могилы, и я понял, что здесь похоронен ребенок Уайнрайтов. Это была не первая могила, которую мы оставляли на своем пути с тех пор, как перевалили через хребет Уосач.