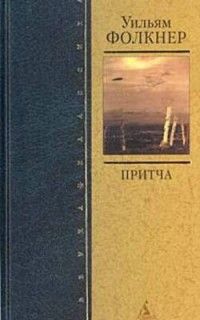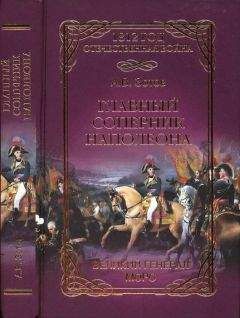— Прошу вас наполнить бокалы, господа, — сказал он. Ни британец, ни американец не шевельнулись. Немец, сидя напротив них с церемонно поднятым бокалом, сказал непреклонно и сдержанно, даже не презрительно:
— Итак. Остается лишь ознакомить вашего главнокомандующего с той частью нашей дискуссии, какую он захочет услышать. Затем официальная ратификация нашего соглашения.
— Официальная ратификация чего? — спросил старый генерал.
— В таком случае общая ратификация, — сказал немец.
— Чего? — спросил старый генерал.
— Соглашения, — ответил немец.
— Какого? — удивился старый генерал. — Разве нам нужно соглашение? Портвейн у вас под рукой, генерал, — обратился он к британцу. — Налейте себе и передайте.
На сей раз встреча состоялась в спальне. Серьезное, благородное лицо глядело на связного с подушки из-под фланелевого колпака с завязками. Сквозь распахнутый ворот ночной рубашки, тоже фланелевой, виднелся не особенно свежий мешочек, свисающий на шнурке с шеи, в нем, очевидно, находилось что-то пахнущее ладаном. Возле кровати стоял парень, одетый в парчовый халат.
— Снаряды были холостыми, — негромко сказал связной бесстрастным голосом. — Аэропланы — все четыре — пролетали прямо через разрывы. Немецкий аэроплан ни разу не отвернул в сторону, он преспокойно летел, даже когда один из наших зашел ему в хвост и целую минуту бил из пулемета. Я сам видел, что трассирующие очереди попадали в цель. И тот же самый — наш — аэроплан спикировал на нас, на меня; я даже ощутил, как один заряд из пулемета попал мне в ногу. Если бы не запах, не вонь жженого фосфора, было бы похоже, что это ребенок выдул горошину через трубку. Потому что в аэроплане был немецкий генерал. Я имею в виду, в немецком. Должен был быть; требовалось либо нам послать кого-то туда, либо немцам сюда. И так как предложение, инициатива, исходило от нас или от французов, то, видимо, нашим правом, привилегией, долгом было выступить в роли хозяев. Только снизу это должно было выглядеть воздушным боем; они не могли — во всяком случае, не посмели бы — приказать солдатам с обеих сторон одновременно закрыть глаза и считать до ста и поэтому прибегли к почти столь же надежному средству скрыть ото всех…
— Что? — спросил старый негр.
— Вы не поняли? Они не могут допустить, чтобы война прекратилась таким образом. То есть чтобы прекратили ее мы. Не смеют. Ведь если мы догадаемся, что можем прекратить войну так просто, как прекращают работу усталые люди, тихо и спокойно решив…
— Я говорю о вашем костюме, — сказал старый негр. — Это костюм полицейского. Вы просто взяли его, не так ли?
— Пришлось, — с тем же безмятежным ужасающим спокойствием ответил связной. — Мне нужно было уйти. И вернуться. По крайней мере туда, где я спрятал свою форму. Раньше бывало очень трудно проходить туда или обратно. А теперь вернуться назад будет почти невозможно. Но вы не беспокойтесь; мне нужно только…
— Он жив? — спросил старый негр.
— Что? — сказал связной. — А, полицейский. Не знаю. Наверное, да. — И с каким-то удивлением произнес: — Надеюсь, что да. — Потом продолжал:
— Позавчера вечером — во вторник — я понял, что они замыслили, но у меня не было доказательств. И я пытался втолковать ему. Но вы его знаете; вы, наверно, и сами пытались втолковать ему то, чего не могли доказать или чему он не хотел верить. Так что придется действовать иначе. Не доказывать ему, не убеждать — времени на это нет. Вот почему я пришел сюда. Нужно, чтобы вы сделали меня масоном. Или, может, времени нет и на это. Тогда просто покажите мне знак — примерно такой…
Он шевельнул, взмахнул рукой у бедра, пытаясь повторить виденный два года назад, в день своего прибытия в батальон, жест того солдата.
— Этого будет достаточно. Должно быть; я обману остальных…
— Постойте, — сказал старый негр. — Объясните не торопясь.
— Я объясняю, — сказал связной с тем же ужасающим спокойствием. — Все солдаты в батальоне отдают ему жалованье за неделю, если они доживут, чтобы получить его, а он — чтобы забрать у них. И добился он этого, сделав их всех масонами или по крайней мере заставив их поверить, что они масоны. Понимаете, они у него в руках. Они не могут отказать ему. И если бы он только…
— Постойте, — сказал старый негр. — Погодите.
— Как вы не понимаете? — сказал связной. — Если мы все, весь батальон, пусть даже один батальон, одно подразделение на всем фронте, начнем, покажем пример — бросим винтовки к гранаты в траншеях, поднимемся безоружными на бруствер, выйдем за проволоку и пойдем вперед с пустыми руками, не с поднятыми, не сдаваясь, а просто с открытыми, показывая, что в них нет ничего, что мы не хотим никому причинять вреда, и не бегом, не спотыкаясь, просто будем идти вперед, как свободные люди, — все как один; представьте себе одного человека и умножьте на целый батальон; представьте целый батальон нас, стремящихся только вернуться домой, надеть чистую одежду, работать, вечером выпить немного пива, поболтать, потом лечь, заснуть и не бояться. И, может быть, лишь может быть, столько же немцев, которые тоже не хотят больше ничего, или, может, лишь один немец, не желающий больше ничего, бросят свои винтовки и гранаты и тоже вылезут с пустыми руками не для сдачи в плен, а чтобы все видели, что в них ничего нет, что они не хотят никому причинять вреда…
— А вдруг не вылезут? — сказал старый негр. — А вдруг они начнут стрелять в нас?
Но связной даже не расслышал этого «нас». Он продолжал говорить:
— Разве они все равно не будут стрелять в нас завтра, когда избавятся от страха? Как только генералы из Шольнемона, Парижа, Поперинга и тот, кто прилетел в немецком аэроплане, встретятся, они устроят совещание, точно установят, где таится угроза, опасность, уничтожат ее и вновь начнут войну; она будет длиться завтра, завтра, завтра, пока все правила этой игры не будут соблюдены, последнего искалеченного игрока не унесут с поля, а победа будет вознесена на алтарь, подобно футбольному кубку в клубной витрине. Вот и все, чего я хочу. Вот и все, что я стремлюсь сделать. Но, возможно, вы правы. Тогда убедите меня.
Старый негр закряхтел. Кряхтение было спокойным. Он высунул руку из-под одеяла, откинул его, передвинул ноги на край кровати и сказал парню:
— Подай мне ботинки и брюки.
— Послушайте, — сказал связной. — Времени нет. Через два часа рассветет, а я должен вернуться. Вы только покажите мне, как подать знак, сигнал.
— Вы не сможете сделать его правильно, — сказал старый негр. — А если и сможете, я все равно пойду с вами. Может быть, я тоже ждал этого.
— Вы же сами говорили, что немцы могут открыть по нам огонь, — сказал связной. — Не понимаете? Опасность, риск вот в чем: кое-кто из немцев может выйти навстречу нам. Тогда стрелять начнут и те и другие, с нашей стороны и с ихней — чтобы перекрыть нам дорогу огневым валом. Они так и сделают. Ничего другого им не остается.
— Значит, вы передумали? — сказал старый негр.
— Вы только покажите мне знак, сигнал, — сказал связной. Старый негр, опуская с кровати ноги, снова закряхтел, спокойно, почти беспечно. Чистый, незапятнанный капральский мундир был аккуратно повешен на стул, под стулом были аккуратно поставлены ботинки с носками. Парень взял их и теперь стоял на коленях у кровати, держа носок, чтобы негр сунул в него ногу.
— Вы не боитесь? — спросил связной.
— Разве впереди у нас мало дел, чтобы затрагивать этот вопрос? раздраженно ответил старый негр. — И я знаю, что вы спросите потом: как я собираюсь добираться туда? Могу ответить: я безо всяких добрался до Франции; думаю, что смогу одолеть еще каких-то шестьдесят миль. И я знаю, что вы скажете на это: я не смогу ходить там в этом французском костюме, если со мной не будет генерала. Только отвечать мне не нужно, потому что ответ вы уже нашли сами.
— Убить еще английского солдата? — сказал связной.
— Вы сказали, что он жив.
— Я сказал, может быть.
— Вы сказали: «Надеюсь, что он жив». Не забывайте этого. Связной был последним, кого часовой хотел бы видеть. Но он был первым, кого часовой увидел в то утро, не считая заступившего на смену охранника, который принес ему завтрак и теперь сидел напротив, приставив винтовку к стенке.
Часовой был под арестом уже почти тридцать часов. И только: лишь под арестом, словно яростными ударами прикладом позапрошлой ночью он не только заглушил ставший невыносимым голос, но и каким-то образом отделил себя от всего человечества, словно эта ошеломляющая перемена, это прекращение четырехлетней крови и грязи и сопутствующий ему спазм тишины забросили его на этот скрытый под землей уступ, где не было видно людей, кроме сменяющихся охранников, приносящих еду и сидящих напротив до прихода смены. Дважды за все это время в проеме входа внезапно появлялся сопровождающий дежурного офицера сержант, кричал «Смирно!», и он вставал с непокрытой головой, охранник отдавал честь, входил дежурный офицер, торопливо бросал положенный по уставу вопрос: «Жалобы имеются?» — и уходил.