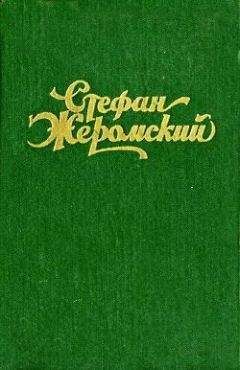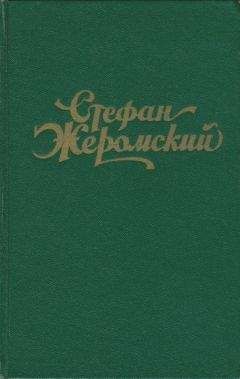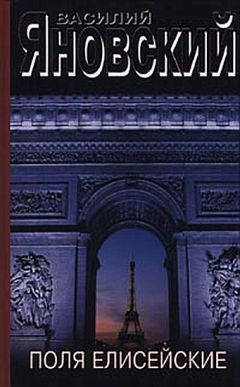Ему казалось, что он стоит в чудесном лесу, в предвечной чаще, никем не сеянной, в чаще, куда еще не ступала нога человека. Вокруг росли гигантские папоротники со стволами в три обхвата, хвощи, величиной с деревья, диковинные мхи и другие, невиданной формы, мистически прекрасные или чудовищно уродливые растения, какие-то сигиллярии, одонтоптериды, лепидодендроны… Эти огромные чудища, которые переплели и соединили между собой цепи лиан, росли на пухлой трясине, где диковинные мхи и неописуемые цветы благоухали в черной жаре вечного полумрака. Сладостные, знойные лета вытягивали из земли до самых туч эти стволы и ветви, доступные лишь взору и птицам, сырые, дождливые зимы насыщали почву на века. Свободные вихри, рожденные в далеких степях среди снеговых гор, прилетали бить и трепать пущу, рыча, как львята. И тогда из ее лона исторгалась песнь, подобная рокоту океана. Как часто бил в нее гром, топтал, рвал и гнул ураган! Дикие тучи красной искрой поджигали ее певучие глубины. И тогда она горела, как огромный костер. Но когда дожди проходили, приходила вечно юная весна, с лилейными плечами, словно молоденькая девушка, ищущая возлюбленного. Шаловливыми устами сдувала она пыльцу с растений на размокшую землю, которая грезила о прохладной тени Еетвей. Новое море зелени разливалось по земле, по которой промчались кременные копыта огня и колеса его колесницы, быстрые, как вихрь.
И снова в тишину чащи молодого бора врывался неожиданный боевой клич ягуара, снова ее раздирал возвещающий смерть крик беспощадного орла.
И вот безбрежные моря, что сонно нежились в глубине континентов, вырвались из своих берегов и выпустили безумные течения, которые вырвали с корнями необозримые леса, понесли их на своей пенистой поверхности, словно разбитый вдребезги флот, и столкнули в эти глубокие впадины. Сюда они свалили их огромной массой, будто в могилу. Прикрыли слоями земли, сорванными с гор. В телах этих растений, на ветвях которых вили себе гнезда бесчисленные птицы, прекратилась жизнь и начался таинственный тысячелетний процесс разложения. Огромное давление опустившихся пластов, наплывы воды и веками идущее время делали под землей свое дело: создавалась вода из кислорода и водорода этих огромных замерших тел, извлекались из них углекислота и кислородные соединения. Остался один лишь уголь в огромном избытке, не имеющий с чем соединиться, словно одинокий дух тьмы. Его ужасающее тело мертвело, застывало и умирало в себе самом тысячелетиями. В мучениях оно срасталось с собой самим, сжималось в самом себе, как преданное проклятью бытие. В прежнем его строении время не пощадило ничего. Остался лишь – словно единственный отзвук, доносящийся из утраченной отчизны, где все цвело, росло и благоденствовало под небесами, – едва различимый рисунок древесных слоев или отпечаток легкого листка на черном, траурном камне.
Посредством кратковременного, хитрого и облегченного труда человек присваивает, как свою добычу, долгие труды природы, ее действия и противодействия, которые нельзя охватить мыслью. В эти священные бездны он приходит с бледным огоньком и короткой киркой. Силой своих жалких рук он выносит то, что спрятал здесь океан. Он берет весь залегающий пласт сверху донизу и выдает на-гора. И оставляет лишь террикон наверху да пустоту в глубине.
Земля не отдает без борьбы своего труда, всего, ею нажитого. Простая и равнодушная, как дитя, она учится коварству у человека. С глыбами, которые он сдвинул с места, она подстерегает его, чтобы в самый неожиданный момент обрушить их ему на голову. Она наполняет смертельными газами штольни, вырытые человеком, и подстерегает – словно в ней бьется сердце тигра, царя вымерших джунглей. Она изливает потайные, невидимые воды, спускает целые озера, скопленные веками, капля за каплей, озера, дремлющие на холодном граните. Она открывает подземные бассейны плывунов, сдвинутых обвалами, и заполняет глинистым илом галереи, пробитые человеком.
– Не схватил вас «хозяин»? – внезапно окликнул их Кожецкий, появляясь из мрака.
Они двинулись по длинному переходу. Вблизи и вдали лошади тянули вереницы вагонеток. Так эти труженики тащили за собой проклятые вагонетки долгие годы. Минуя во тьме встречных, они отворачивали в сторону головы: желтый свет шахтерской лампочки резал им глаза.
Наконец они пришли к подъемной машине, которая должна была поднять их на сто метров вверх. Вода лилась здесь струями, капала в клеть, стекала по деревянной обшивке стен. Они стали в мокрую клеть, среди крикливых, промокших людей с сердитыми лицам«, И через мгновение были вынесены на верхнюю платформу. Оттуда пришлось идти темным, бесконечно длинным коридором. В нем было холодно и сыро. То тут, то там своды, обрушившись, прогнули крепление. Могильной черноты не освещали даже шахтерские огоньки. Лишь изредка слышался отдаленный шум колес и крик коногона. И опять из мрака появлялся конь-шахтер, снова отводил свои печальные, тоскующие, безнадежные глаза, словно ему отвратителен был вид человека, – и исчезал в вечной могиле.
Вдруг Юдым услышал впереди себя в потемках разговор, вернее монолог. Кто-то громким, внятным голосом говорил:
– Говорю тебе, Фукс, не соскочила!
После недолгого молчания тот же голос еще настойчивей повторял:
– Не соскочила, Фукс! Раз уж я говорю не соскочила, значит не соскочила…
Кожецкий потянул Юдыма к стене и шепотом объяснил ему, что это означает:
– Иногда колеса одной из сцепленных между собой вагонеток соскакивают с рельс. Тогда конь, по кличке Фукс, останавливается, у него не хватает сил сдвинуть вагонетку с места, да к тому же и другие вагонетки тотчас сходят с рельс. Коногон должен тогда приподнять и поставить вагонетку на рельсы. Сделав это, он кричит лошади, что уже выполнил эту работу. Но иногда он прицепляет одной вагонеткой больше, и тогда лошадь тоже останавливается, полагая, что это вагонетка соскочила. Коногон криком заверяет ее, что «не соскочила», но лошадь, слегка дернув, не трогается с места, ибо чувствует большую тяжесть, чем следует. Тогда коногону приходится убеждать ее: он идет вдоль вагонеток в самый конец и оттуда еще раз торжественно заверяет: «Фукс, не соскочила»1 И бедная лошадь мирится с мыслью, что ее эксплуатируют, собирается с силами и продолжает влачить в темноте свою злую долю. Быть может, даже она начинает сознавать, что это такое, быть может даже потихоньку вздыхает или стискивает зубы, но принуждена мириться с таким порядком, ибо если бы она предалась мечтаниям или в знак протеста, скажем, остановилась, то коногон отлупил бы ее кнутом, – тем и кончились бы попытки улучшить условия труда.
– Да, но вы должны запретить… – сказал Юдым.
Инженер поднял повыше свою лампу и сказал с уничтожающей, издевательской улыбкой:
– А я и запрещаю, строжайше запрещаю…
Мгновение спустя он прибавил:
– Запрещаю, от всей души запрещаю, но у меня уже нет сил…
В один из последующих дней Юдым в обществе Кожецкого отправился к самому Калиновичу. Это была хитрая махинация, достойный инженера ход, предпринятый Кожецким, чтобы познакомить Юдыма с крупной фигурой.
– Кто же такой этот Калинович? – спрашивал Юдым, шагая по улице, ведущей к квартире одного из могущественнейших людей угольного бассейна.
– Вы не знаете! Не знаете таких элементарых вещей! Ну конечно, он инженер, – но великий!
– Вот как… Почему же мы должны идти к нeй непременно сегодня?
– Потому что так повелевает хитрость, а также ловкость.
– Гроза будет. Парит, как в пекле, – сказал Юдым. Мгновение спустя он прибавил: – Я бы предпочел, чтобы меня тетка Пелагия кнутом отстегала, чем идти сегодня с этим визитом.
– Идите, идите быстрее, а то гроза будет.
Они стояли на холме. Внизу лежал город – ряд домов, одинаковых, черных, закопченных. Невдалеке от него из домен, как из вулканов, вырывалось пламя. Вихрь отрывал от него клочья, подхватывал их и как будто хотел швырнуть в город.
Деревья, засыпанные пылью и сажей, были похожи на рабочих. Зелень травы затянулась траурным покровом.
За лесом, за цепью холмов простерлась на горизонте стальная туча, изрытая темными ямами. Она двигалась медленно. От нее веяло холодным ветром, который по временам вдруг затихал. Ветер крался вдоль стен, скользил под забором, заглядывал в сточные канавы и задерживался на деревьях, тревожно трепещущих от страха. Иногда он галопом несся по безлюдным улицам, свистя и шумя, как авангард надвигающихся издали чужеземных полчищ.
Кругом виднелись бесконечные ряды фабричных труб. Из них горизонтальными столбами валил дым, разрываемый ветром.
С пересохших луж, заполнявших улицы во всю их длину и ширину, ежеминутно вздымались клубы темной пыли, неслись над постройками, над причудливыми ретортами фабрик и обрушивались на человеческое жилье. Эта летучая грязь поминутно заслоняла город, печальный, странный, запутанный и холодный, как денежная афера.