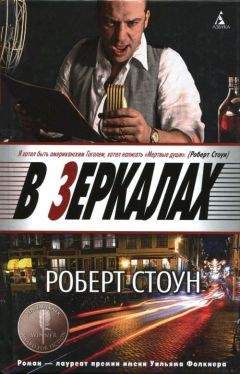Рейнхарт путался в толстых пульсирующих прядях, он привалился к стене, исступленно отдирая их от себя. Богданович побледнел, забормотал и полез в карман за черными очками. Марвин смотрел с ужасом, разинув рот, черноволосая девица завопила.
— Господи, — сказал Рейнхарт.
— Смотрите, смотрите, — закричал Марвин, — черт возьми, посмотрите, Рейнхарт! Смотрите, как они это делают? Как?
— Да, — вяло отозвался Рейнхарт, — а неплохо, а?
— Это просто оркестр, — объяснил Ирвинг. — Они наняли музыкантов.
Они двигались вдоль бетонной стены, — радостная толпа, сомкнувшись, обгоняла их.
— Ух ты, — сказал Богданович, — красно-бело-синие дела. — Он передернулся и снял очки.
По другую сторону арки вздымался неизмеримый купол света, из которого словно бы маленькие смерчи снега непрерывно опускались на пронзительно-зеленую траву. На обоих концах поля торчали белые крестообразные флагштоки, окруженные цветниками из красных роз, а в центре, у края, стояла незатейливая эстрада. Позади нее виднелось что-то вроде брезентового циркового шатра. Перед эстрадой на вращающихся лопастях, скрепленных в виде креста, были установлены газовые горелки.
— Как бы нам забраться наверх? — спросил Марвин, глядя на факелы в вышине. — Нам надо туда.
— Ну, — сказал Ирвинг, — я бы так высоко сидеть не хотел.
— Понятно, — сказал Богданович, — но ведь это мы, а не вы. И мы любим сидеть, где высоко.
— Верно, — сказал Марвин.
Брюнетка угрюмо кивнула.
— Прекрасно, — сказал Рейнхарт. — В сомнительных местах испускайте одобрительные крики как можно громче.
— Само собой разумеется, — сказал Богданович, и Марвин с брюнеткой направились следом за ним к лестнице.
Ирвинг и Рейнхарт пересекли поле и прошли через лабиринт сетчатых оград, окружавших скопления накрытых столиков.
— Поглядите-ка на траву, — сказал Рейнхарт. — Это же настоящая трава.
В дальнем конце поля оркестр в форме континентальной армии играл «Сплотимся под знаменем нашим, ребята»[105].
— И розы, — сказал Ирвинг.
Рейнхарт, стараясь не глядеть на трибуны, показал свой пропуск охраннику перед эстрадой, поднялся на нее и направился ко входу в шатер.
— А мы опоздали, — сказал Ирвинг.
— Да, — сказал Рейнхарт.
— Пожалуй, я займусь звуком.
Ирвинг подошел к краю эстрады и посмотрел вверх, на прожекторы. Рейнхарт сделал жест, словно поправляя галстук, и вошел в шатер.
Трава под брезентом была не такого цвета, как на поле; земля здесь была влажной и скверно пахла. В траве были вытоптаны грязные тропинки. Рейнхарту вдруг все это напомнило какое-то совсем другое место. Он сорвал одуванчик, а когда выпрямился, под его веками пробежали разноцветные вспышки. Он уставился сквозь них на седого старца, который глядел на него с насмешливым добродушием.
«Что еще?» — подумал он.
Снаружи раздавался оглушительный шум, округленный нарастающий звук, который рябил брезентовые стены. Рейнхарт смотрел на старика и старался вспомнить, где было это другое место.
— Кафе «Мятежник», — сказал Рейнхарт.
— Кафе «Мятежник»? — вежливо переспросил сенатор Арчи Райс. — Вы, по-видимому, немало времени провели в этом кафе. Или там виски разбавляют десять к одному?
На складном столе посреди шатра стояла бутылка с готовым коктейлем «Олд-фэшнд»[106]. Рейнхарт подошел и стал смотреть, как свет керосинового фонаря просачивается сквозь жидкость, отбрасывая волнистые тени на стопки бумаги рядом с бутылкой. От шума снаружи стены и потолок надувались огромными противными пузырями текучего брезента. Рейнхарт потрогал пальцами грудь и ничего не почувствовал. Он смотрел на бутылку.
— Рейнхарт! — позвал чей-то голос.
Кто это крикнул «Рейнхарт»? Он повернулся на звук и в его исходной точке увидел Бингемона и Кинга Уолью, которые смотрели на него.
— Поди-ка сюда, приятель, — сказал Бингемон.
Мистер Бингемон — это зрелище, подумал Рейнхарт. Лицо Бингемона было красным и черным — красные блики, черные тени. Зубы выглядели весьма функционально. Злой король Плохих Бобров.
— Какого черта, дружок? — ласково спросил мистер Бингемон. — Вы же не пьяны, а?
— Нет, — сказал Рейнхарт. — Я не пьян. Вот увидите.
Мистер Бингемон замигал, уставился на него и расхохотался.
— Сукин ты сын, — сказал он Рейнхарту. — Можешь быть уверен, я с тебя глаз не спущу. Бьюсь об заклад, ты себя покажешь.
— Да, покажи себя, дружок, — хрипло сказал Кинг Уолью, — и мы тебя расцелуем.
Красные и белые зловещие кольца угрозы плавали над их головами. Рейнхарт смотрел на них хмуро.
— Он сегодня полон прыти, — сказал Бингемон. — Черт подери, с этими сукиными детьми надо держать ухо востро, когда они слишком развеселятся. Я хочу сказать, что ты опоздал на час, пьянь!
— Да, — сказал Рейнхарт, посмотрев на часы, которых, как он прекрасно знал, на его левом запястье не было. Когда-то у него были часы, вспомнил он, но он их заложил. — Извините.
Бингемон и Уолью вышли на эстраду. На их месте возник Джек Нунен. Он будто перекроил себе лицо, подумал Рейнхарт, сырость вокруг глаз, а рот и нос словно заново наклеены.
— Я решил подождать, пока они уйдут, чтобы сказать вам вот что, — объявил Джек Нунен. — Вы здорово вляпались. Знаете, что сказал Бингемон? Он сказал, что убьет вас, если вы его сегодня подведете. Так и сказал: «Я его убью». И вполне возможно, что это — не для красного словца, Рейнхарт. Вы же его знаете. Он может и вправду вас убить!
— Джек, — сказал Рейнхарт.
— Что? — слезливо спросил Джек Нунен.
— Ничего, Джек. Ничего.
Он прошел в тот угол шатра, где Фарли-моряк нервно перелистывал пачку исписанных листов.
— А! — сказал Фарли. — Рейнхарт, старина, ты впал в немилость, приятель. Тебя недолюбливают. Берегись Бингемона. — Он быстро посмотрел по сторонам. — Шиза. Полная шиза.
— Шиза, говоришь? Ты послушай оркестр.
— А, да, — сказал Фарли. — Оркестр. — Он помахал папкой с заметками. — Мое воззвание. Воззвание! Какая прискорбная насмешка над Живой Благодатью.
— Плюнь, — утешил его Рейнхарт. — Человек спотыкается, но Церковь стоит.
— Верно, — сказал Фарли. — В точку. И мы постоим друг за друга. Вместе ввязались, а?
— Конечно, — сказал Рейнхарт. — Нас водой не разольешь.
Он вышел на эстраду и уставился на толпу, проходившую по яркой траве. Ирвинг стоял у края эстрады с проводом в руке.
— Видишь? — сказал Ирвинг, кивая в сторону горелок на перекрещенных лопастях. — Это крест. Они здесь сегодня зажгут крест.
— Знаю.
— Это уже не смешно. И всегда-то эта штука была не слишком веселой, но, знаешь, когда такое… — Он обвел рукой трибуны. — Такое собирается вместе, чтобы зажечь крест, я теряю sang froid[107]. Видишь ли… крест! Это же для меня.
— Брось, Ирв, — сказал Рейнхарт. — Только увидел крест и уже думаешь, что он для тебя. А он отчасти и для меня.
Над прожекторами во мраке невидимой толпы бился гул, падавший на поле, как волны черного снега, или тень крыльев, или перекличка хищных птиц на ветру. Рейнхарт посмотрел на прожекторы и увидел мертвые побелевшие глаза, подергивание тощих шей, окровавленную кость, терзаемую добычу — огромный стонущий птичник, клювы и когти.
— Ирвинг, — сказал он, — как ты думаешь, кого они здесь собрали?
Ирвинг пожал плечами:
— Твоих поклонников.
— Верно, — задумчиво сказал Рейнхарт. — Абсолютно верно.
— Да, — сказал Ирвинг, рассматривая изоляцию провода, который держал в руке. — По-моему, это уже не смешно.
Она шла за толпой вверх по бетонной лестнице под звуки старой песни, которую играл оркестр на поле. Толпа вела себя как в деревенской церкви: в приподнятом настроении, но серьезные, люди занимали места на скамьях.
Джеральдина подумала, что вот уже три дня она не просыхает. В сумке у нее было четыре доллара и косяк, который ей дали калифорнийцы, жившие под ними на Сент-Филип-стрит. Еще у нее была четвертинка с жидкостью под названием «Мексиканский коньяк» и пистолет, купленный за восемь долларов в аптеке «Альянс». Это был однозарядный малокалиберный «даррел-ворлис», и каждый раз, когда она дотрагивалась до сумочки или перекладывала ее из руки в руку, она ощущала под винилом железные косточки машинки.
Она набралась от него его бреда и страхов; заразилась от него. И навалилось теперь, как на него, и этого уже не вынести. Хуже быть ничего не может — обернешься, а оно подступило еще и сзади. И отбиться с двух сторон не выйдет — разве что ты очень умная или много времени в запасе; чтобы днем с этим жить, надо, чтобы оно все время было перед тобой.
Толпа вышла на открытый воздух, и при виде поля, огней, оркестрантов в костюмах с блестками из груди людей вырвался сладкий вздох. Джеральдина двигалась среди них, держась за перила. Да, крупную развели бодягу, крупнее ей видеть не доводилось. Молодец, Рейнхарт, подумала она, окидывая взглядом стадион, конечно, тебе самое место на радио. Она спустилась на несколько рядов и села около трех немолодых женщин. Они мурлыкали и напевали «Это моя земля»[108].