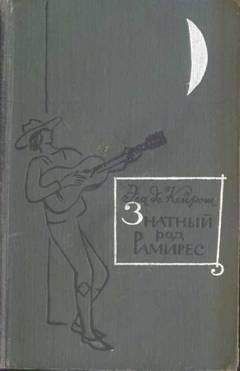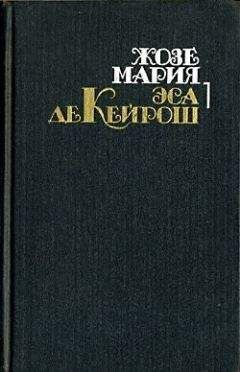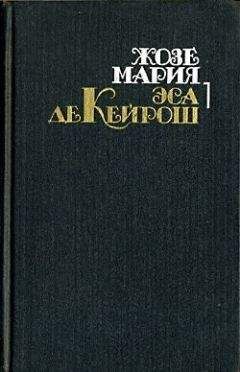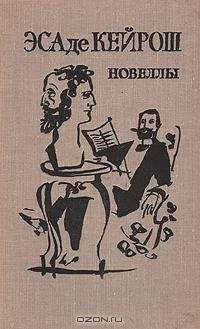После полудня Гонсало поспешил в клуб почитать другие газеты. Все, как одна, сообщали о битве и поздравляли его! «Портский вестник» подозревал, что в дело замешана политика, и яростно нападал на правительство; «Портский либерал», однако, считал, что «гнусное покушение на жизнь одного из знатнейших дворян Португалии и блистательнейших умов нового поколения, по-видимому, не обошлось без местных республиканцев». Лиссабонские газеты главным образом восхваляли «несравненное мужество сеньора Гонсало Рамиреса». Но всех превзошел «Завтрашний день»; специальная статья (без сомнения, принадлежащая перу Кастаньейро) напоминала о героических преданиях славного рода, расписывала красоты Санта-Иренеи и утверждала, что «теперь все мы с удвоенным нетерпением ждем историческую повесть из жизни XII века, основанную на истинных подвигах Труктезиндо Рамиреса, приходящегося автору далеким предком, и обещанную в первый номер «Анналов истории и литературы» — нового журнала нашего дорогого друга Лусио Кастаньейро, возрождающего с похвальным усердием героический дух нации!»
Гонсало разворачивал газеты трясущимися руками. Жоан Гоувейя жадно читал заметки через его плечо и бормотал в упоении:
— Ух, Гонсалиньо, и голосов ты получишь!
А вечером, вернувшись домой, Гонсало получил письмо, которое повергло его в смятение. Писала Мария Мендонса. Бумага была спрыснута духами, и он узнал запах, который так понравился ему в руинах монастыря. «Только сегодня мы услышали о том, какой огромной опасности вы избежали, и, поверьте, кузен, обе еще не совсем пришли в себя. Однако я (и не только я) горжусь вашим мужеством. Вы истинный Рамирес! Я поспешила бы в «Башню» обнять вас (рискуя вызвать не только сплетни, но и зависть), однако один из моих малышей, Неко, сильно простудился. К счастью, ничего серьезного… Здесь же, в «Фейтозе», все мы, от мала до велика, мечтаем увидеть героя, и, мне кажется, никто из нас не удивился бы, если бы вы, кузен, приехали сюда послезавтра (в четверг), часам к трем. Мы пройдемся по окрестностям и закусим на свежем воздухе, как делали наши предки. Согласны? Аника очень, очень поздравляет вас. Преданная вам…» Гонсало задумчиво улыбался, глядя на письмо и вдыхая аромат духов. Еще никогда кузина Мария не толкала так откровенно дону Ану в его объятия… А дона Ана, по всей видимости, не слишком сопротивлялась… Ах, если бы речь шла только о постели! Но нет, без церкви тут не обойтись. И он снова увидел луну, ступеньки, черные тополя и услышал голос Тито: «У нее был любовник… ты знаешь, я никогда не лгу».
Он медленно взял перо и написал кузине: «Дорогая кузина, я очень тронут вашим вниманием и вашим восторгом. Но не будем преувеличивать! Я только отхлестал мерзавцев, стрелявших в меня. Это совсем нетрудно тому, у кого есть такой великолепный хлыст. Что же до визита в «Фейтозу» (весьма для меня приятного), я, как это ни прискорбно, не могу приехать ни послезавтра, ни вообще в этом месяце. Я с головой ушел в повесть, в предвыборные дела, в предотъездные хлопоты. Суровая действительность пришла на смену прогулкам и грезам. Прошу заверить сеньору дону Ану в моем глубочайшем почтении. Горячо желаю вам благополучия и скорейшего выздоровления милого Неко и остаюсь преданный вам…» и т. д.
Он проставил число и, прикладывая печать к зеленому сургучу, сказал про себя:
— Этот мошенник Тито вытащил у меня из кармана двести тысяч!..
* * *
Всю последнюю неделю сентября Гонсало посвятил окончанию своей повести.
В утро великого мщения рыцари Санта-Иренеи и лучшие ратники Кастилии нагнали в ущелье, как и предсказывал Гарсия Вьегас Мудрый, отряд Байона, скакавший к Коимбре… Бой был коротким, да и не бой это был вовсе, не честная битва, но облава, словно не знатного рыцаря, а волка задумали они убить. Так пожелал Труктезиндо, и дон Педро его одобрил, потому что они не с врагом боролись, а ловили убийцу.
Еще не занялась заря, когда Бастард покинул замок Ландин, столь поспешно и непредусмотрительно, что ни конный дозор, ни арьергард не охраняли его отряда. Птицы уже пели в листве, когда он быстрою рысью въехал в узкое ущелье, перерезавшее заросшую вереском каменистую гору, названную скалою Мавра с тех пор, как, по воле Магомета, она треснула и раздалась, чтобы спасти от христианских клинков мавританского алкайда Коимбры, увозившего на крупе своего коня похищенную монахиню. И не успел последний конник вступить в это ущелье, как с другой его стороны показались рыцари Санта-Иренеи. Впереди ехал сам Труктезиндо, с открытым забралом, без щита, играя легким копьем, словно направлялся на охоту. Из леса выскочили притаившиеся там конники Кастро, и в один миг все ущелье ощетинилось копьями, как щетинится шипами подъемный мост. И, словно прорвалась плотина, со склонов ринулась в ущелье темная лавина пехоты. Пропал, пропал грозный Байон! Он выхватывает меч, и лезвие сверкает, вращаясь над его головой. Он кидается на Труктезиндо — и бешеный крик оглашает скалы… Но из темного скопища балеарских пращников вдруг взлетает змеей пеньковая веревка, обвивается вокруг его щеи, срывает Бастарда с мавританского седла, вот он рухнул на землю, и длинный меч, ударившись о камни, переломился у золоченой рукояти. И пока рыцари Байона смотрят в оцепенении на окруживший их лес копий, пешие ратники, дико крича, кидаются на их сеньора, словно псы на кабана, волокут его вверх по склону, вырывают из его рук щит и кинжал, в клочья рвут пурпурный казакин и ломают застежки шлема, чтобы плюнуть в гордое лицо и в золотистую бороду!
Потом грубое мужичье взваливает его, связанного по рукам и ногам, на вьючного мула, между двумя вьюками стрел. Так везут с охоты тушу оленя! И погонщики глазеют на гордого рыцаря, на Огнецвет, что так недавно озарял своим блеском гнездо Байонов; а теперь лежит меж двух деревянных ларей, обвитый веревками, и в один из тугих узлов воткнут жесткий цветок чертополоха — символ измены.
Пятнадцать его рыцарей смяты яростным натиском, разбросаны по земле. Одни лежат недвижно, словно уснули в черных своих доспехах; другие — порублены, изувечены, и клочья кровавого мяса страшно багровеют в дырах разорванных кольчуг. Пленных оруженосцев загнали копьями в овраг, где бородатые леонские воины без пощады и жалости приканчивают их, точно подлых конокрадов. В ущелье, словно на бойне, стоит тяжелый запах крови. Чтобы опознать людей Байона, рыцари Труктезиндо ломают подбородники, вздергивают забрала и незаметно срывают со шнурков серебряный медальон, ладанку или другую святыню. Вот Мендо де Бритейрос признал в чернобородом, измазанном кровавой пеной красавце своего родича Соейро де Лужилде, с которым в Иванову ночь прыгал через костры и весело плясал в замке Уньело, и, склонившись над лукой своего седла, помолился пресвятой деве за бедную душу, не получившую отпущения грехов. Черные тучи омрачили летнее утро. А у входа в ущелье, под старым дубом, Труктезиндо, дон Педро де Кастро и Гарсия Вьегас, прозванный Мудрым, совещались о том, как предать медленной и позорной смерти совершившего столь низкое деяние Байона.
Всю эту неделю тихой, ранней осени Гонсало просидел в библиотеке, описывая поимку Бастарда. Он трудился в поте лица своего, как пахарь на каменистой пашне. В субботу он встал пораньше, и волосы его еще не просохли после душа, а он уже потирал руки перед письменным столом — еще два часа напряженной работы, и к самому завтраку он кончит свою повесть, свой труд! Однако страшные и гнусные события финала невольно отпугивали его. Дядя Дуарте едва коснулся их в своей поэмке, как и подобает возвышенному песнопевцу, который перед лицом кровавой правды издает скорбный стон, прячет лиру в футляр и торопится свернуть на более приятную тропу. Взявшись за перо, Гонсало пожалел, что его славный предок не убил врага в пылу битвы одним из тех благодатных для летописца ударов, которые рассекают разом и рыцаря и коня и навсегда остаются в истории.
Но, увы! Под сенью старого дуба три знаменитых рыцаря не спеша измышляли самую страшную месть. Труктезиндо считал, что надо вернуться в Санта-Иренею, воздвигнуть виселицу у дозорной башни, на том самом месте, где упало на землю мертвое тело сына, и повесить на ней, предварительно выпоров, подлого убийцу. Старый дон Педро де Кастро предлагал другую расправу, не менее страшную, но более краткую. К чему возвращаться в Санта-Иренею, тратить на это целый день, когда нужно скакать в Монтемор на выручку к инфантам? Не лучше ли положить Бастарда у ног Труктезиндо на добрую колоду, как свинью, что режут к рождеству, и приказать конюху, чтоб тот опалил ему бороду, а потом велеть мяснику, чтоб тот прирезал его кухонным ножом и медленно, по капле выпустил кровь из горла?
— Что скажешь, сеньор дон Гарсия?
Дон Гарсия Мудрый расстегнул железное забрало и отер с морщинистого лица пот и пыль сражения.