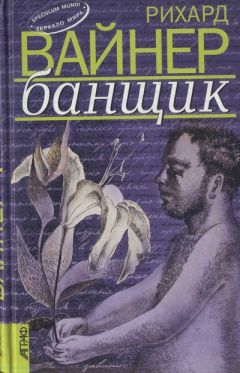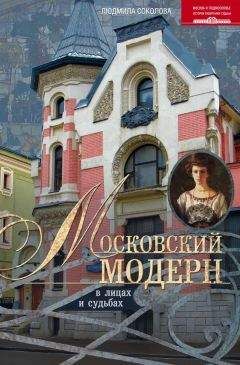— Садись, — и она указала на стул, что стоял подле ее стула.
Я невольно взглянул на сиденье этого стула. Мне в голову пришло слово «предательство». Но это лишь поначалу. Потом подозрения рассеялись, и я сел. Тут я заметил, что отчего-то пытаюсь сложить руки так, как если бы хотел подражать ей, и меня охватило чувство собственной неполноценности. Однако план моей речи был продуман, и я знал, что не изменю ему.
Мы впились в зрачки друг друга.
— Ты лгунья, Элечка, и интриганка. После того, что я видел, я уже не знаю, пришел ли я сюда из любопытства или из симпатии.
— Разумеется, ты пришел из любопытства, но какая разница? Да, если хочешь, я лгунья, но не интриганка… К чему ты, собственно, клонишь? Я приехала в Париж. Ну и что?
Иронически извинившись за то, что буду сейчас говорить вещи общеизвестные, я перешел к позавчерашним событиям на площади Нации. Поскольку я вел речь о вещах общеизвестных, то и обрисовал их очень коротко. Но от финального аккорда я отказываться не хотел:
— В мешке я нашел собаку, но — мертвую!
— Как она могла быть мертвой, — произнесла Эля с оттенком язвительности в голосе, — как она могла быть мертвой, если сейчас она на прогулке?
— Ха-ха-ха!
Элю, однако, вопреки моему ожиданию, взрыв этого презрительного смеха нимало не рассердил. Она внезапно перевела взгляд на мои губы, как если бы на них ей что-нибудь померещилось, изумленное недоверие промелькнуло на сей раз в ее взгляде, и она сказала с надрывом, не отводя глаз от моих губ:
— Так как же все это было?!
И тогда я начал подробно и обстоятельно объяснять, что именно происходило в субботу.
— И вообще, Эля! Уже эти твои нитяные митенки, твоя странная шляпа, в которой ты ко мне пришла, все твои речи, твой смех — все, все! Элечка, что ты вытворяешь? Мы, которые были… между которыми было…
Она прикрыла мне рот рукой; зачем? ясно же было, что последних слов она не расслышала.
— Тоничек, собака сейчас гуляет. Как бы то ни было, она сейчас гуляет, Миря вот-вот приведет ее, ты сам увидишь. Что же ты видел? Что ты видел?
Не знаю, как мне удалось выкрикнуть «Эля!», ибо мне казалось, что я задыхаюсь.
Элины глаза по-прежнему смотрели на меня. Надо ли говорить, что я рассказывал ей, какое впечатление произвел на меня ее тогдашний визит, рассказывал о том, что видел позавчера на площади Нации? Наверное, я лишь бормотал нечто нечленораздельное, наверное, я, словно животное, лишь издавал звуки, потому что эти глаза!!! Рядом со мной находились два копейщика, что бросали на меня враждебные косые взгляды.
— Кто это тебе рассказал? — воскликнула она вдруг, громко рассмеявшись, и откинулась на спинку стула.
— Кто мне рассказал — что?
— Может, я сама проговорилась? — Стоило ей произнести это, и я понял, что ее опять понесло и что она ни с того ни с сего сейчас заговорит столь же бурно, как в пятницу у меня. — Но я этого, право, не помню. Как же много вокруг клеветников! И кто это только мог тебе рассказать? Кто мог рассказать тебе, что однажды — но с тех пор столько лет прошло!!! — интересно, я уже была тогда замужем? Да, была. Это случилось во вторник, на масленицу, я хотела на бал, а муж — ну, ты же их знаешь! — и говорит: ну ты и выдумала, с тем, что ты носишь под сердцем… он имел в виду нашего Хуберта… короче, вышла отвратительная ссора, одна из тех, что заканчиваются хлопаньем дверью и уходом в пивную… Впрочем, Курт отправился не в пивную, для этого он слишком благороден, нет, Курт не таков, он пошел в кафе, а я осталась одна, одна. Вижу все, как сегодня. Одна!.. Я замужем, жду ребенка, на горизонте — некий рубеж; он как будто отделяет то, что было, от того, чего уже не будет, это все равно как сказать дважды «чего уже не будет»… и в тебе что-то взывает к тому, что тебе принадлежит, и ты этого жаждешь, я хожу по квартире, закрываю за собой двери, тихонько, чтобы оно не проснулось, потому что, пока оно спит, оно остается с тобой… и вот ты стоишь над выдвинутым ящиком комода, полного семейных реликвий. Вещи, оставшиеся от бабушки, я беру их в руки, одну за другой, вот вязаный зимний шерстяной чепец, весь в лентах и розетках, который завязывается под подбородком, вот нитяные митенки, вот черная мантилья, усеянная черными же бусинками, которые задевают друг о друга и шуршат, мне пришло в голову облачиться в этот наряд, и, как ни странно, по мере того, как я надевала на себя одну вещь за другой, преображаясь в старуху, с моих плеч точно сваливалось по нескольку лет, но дело было не только в этом, все эти опадающие годы были подобны слоям, и каждый такой слой обнажал нечто новое, что прежде было им прикрыто, нечто странное, не слишком привлекательное, в меня входило что-то новое, оно опутывало меня, и я стыдилась этого, сама не зная, почему. Потом, когда я уже переоделась в старуху, мне захотелось выйти на улицу. На бал? Да нет. Просто на улицу. Мне захотелось на улицу, и это было дурно. У нас была беспородная собачка, маленькая, поместилась бы в муфту, и я придумала, будто бы ее надо выгулять. Представляешь, Тонда, прямо в этом маскарадном наряде! Площадь Иржи из Подебрад находилась совсем рядом. Стояла оттепель. В одной из подворотен была скамейка, на ней сидел человек, сразу и не поймешь — то ли ряженый, то ли нет. Светло-коричневая шляпа, темный пиджак с большой бутоньеркой, клетчатые брюки, бакенбарды и монокль.
Эти бакенбарды старили его, он походил на взбалмошного щеголя, пылкого любовника, каких изображают в комедиях, но когда я подошла ближе, то поняла, что бакенбарды могут быть фальшивыми. Я немного боялась, вокруг-то ни души, но эти бакенбарды не давали мне покоя, я все думала, какой бы он оказался, если бы их снял, а вдруг молодой и красавец. Ты, Тонда, можешь мне не верить, но честное слово, когда я про себя произнесла «красавец», да еще так сладострастно, что даже сама испугалась, то во мне словно что-то загорелось. Словно искры полетели. И вот иду я мимо этой скамейки, веду собачку, немножко нарочно горблюсь, ногами шаркаю, шаги делаю короче — и вдруг слышу за спиной: «Эй, тетка!» Он точно пощекотал меня, но одновременно я взбесилась, я сама себе тогда эти слова сказала: «пощекотал» и «взбесилась», обрати внимание, Тонда, это ведь все не просто так, не знаю, почему, но я тогда нарочно подбирала такие вот простые, грубые слова, и это доставляло мне удовольствие, да, такие слова… в общем, ты, наверное, понимаешь! Может, это было даже похуже, чем «пощекотать», короче, я разозлилась. Оборачиваюсь, сдергиваю с головы чепец — а он уже стоит рядом и сделал то, о чем я так мечтала, нехорошо было об этом мечтать… бакенбарды сорвал, шляпу тоже. Клянусь тебе, Тонда, он оказался красавцем, но как бы это объяснить? Он был наглецом. Церемониться не собирался. Хватать меня он пока еще не решался, но уставился во все глаза, да и стоял почти вплотную…
Я давно уже ерзал на своем стуле. Мне больно было слышать эту внезапную и непрошеную Элину бесстыдную исповедь. Я не выдержал:
— Эля, значит, подобное с тобой уже было!
Но она повторила, как будто ей это было безумно важно, повторила капризно, едва не топая ногой:
— Говорю же, он уставился на меня во все глаза, подошел почти вплотную — ясно тебе? — и вдруг говорит: «Никакая ты не тетка. Ты в самом соку. Ну что — займемся этим?» В общем, я не стану тебе описывать, как именно он на меня смотрел. Но вот как смотрела я, если он осмелился на подобное, — ты слышишь, Тонда? — как же смотрела я? Ладно, Тонда, я расскажу тебе все, если ты знаешь, что я из себя представляю, а может, ты что-то слышал или видел… «Ах вы идиот, что значит — займемся этим?» И влепила ему такую… нет, эта пощечина не была искренней, потому что все во мне играло, но и не такая, как ты подумал… А он расхохотался, даже обрызгал меня: «Так вот ты, значит, как, девка? А что ты скажешь на это?» И не успела я глазом моргнуть, как он схватил эту собачку, — вот видишь, я опять сказала схватить — она и не пискнула, и швырнул мне ее к ногам. Задушенную. Сколько у меня с тех пор было мужчин!!!
— Эля!
— Понимаешь, я не могу без этого, без этого самого. Не то чтобы я хвасталась, нет, и не стоит так уж пытаться отучать меня от этого! Конечно же, это болезнь!
(«Конечно же, это болезнь!» — она произнесла почти с гордостью.)
— Хуже всего то, что я прекрасно знаю, что изменилась бы, если бы хоть кто-то из них остался со мной — потому что, видишь ли, все они… и какая мне, казалось бы, разница?.. я не знаю, почему, но они потом всегда выкидывают меня, даже на глаза больше не показывайся, ты, лахудра, вот что они говорят, и я не понимаю, почему, мне кажется, я к ним всей душой, такая ласковая — на чем это я остановилась? ах да! в общем, я изменилась бы, если бы кто-то из них не бросил меня, но он должен все знать, понимаешь, он заранее должен был бы знать, какая я, должен, понимаешь?