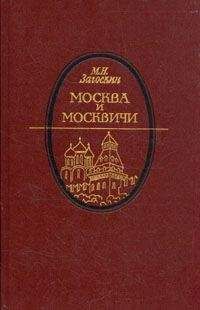— В самом деле!.. Совсем из ума вон!.. Так ступай на Каменный мост за Москву-реку…
— Да не прикажете ли, Богдан Ильич, заехать прежде к Буркину?… Он близехонько отсюда, из Замоскворечья нам будет не по дороге; ведь нам придется ехать на Крымский брод.
— И то дело! Поедем к Буркину.
Матвей Юрьевич Буркии — давнишний мой знакомый; мы вместе с ним служили в двенадцатом году. Он старый холостяк, богатый, умный и честный, но несколько странный; впрочем, эти странности не мешают ему быть очень любезным человеком. Матвей Юрьевич принадлежит к числу тех москвичей, которые, живя в столице, любят в то же время пользоваться всеми удобствами и простором деревенского быта. Его деревянный, обшитый тесом дом окружен со всех сторон службами и всякого рода надворным строением. Тут все есть: и баня, и сушильня, и амбары, и голубятня, и застольная изба, в которой каждый день по колокольчику сбираются обедать человек тридцать дворовых людей. Разумеется, позади дома разведен сад с тепличкою, парниками, грунтовыми сараями и затейливой беседкою, которая немного пошатнулась набок, но все еще красива и очень походит издали на развалины греческого храма. Поросший густой травой обширный двор Буркина служит довольно сытным пастбищем для разных домашних животных, из числа которых, как вы сейчас увидите, одна презадорная скотина обошлась со мною самым невежливым образом.
Когда я въехал во двор к Буркину и сошел с дрожек, мой Петр отправился с ними на другой конец двора и остановился подле конюшни, то есть, по крайней мере, шагов сто от дому. Я вошел в сени, гляжу — у самых дверей передней комнаты лежит врастяжку преогромный козел. Надобно вам сказать, что для меня нет ничего отвратительнее этого безобразного и зловонного животного, которое, по какому-то старому предрассудку, держат иногда вместе с лошадьми на конюшне, но мне и в голову не приходило, что с ним можно повстречаться в доме.
— Вот нашли швейцара, — сказал я. — Эй ты, Васька, пошел прочь!
Козел, не трогаясь с места, приподнял голову, мотнул рогами и взглянул на меня таким равнодушным и нахальным образом, что мне стало почти обидно.
— Ах ты, скверная скотина! — закричал я. — Ты не хочешь встать? Так постой же, — продолжал я, толкнув его ногою, — вот я тебя потревожу! Пошел, пошел!
Козел вскочил, отошел от дверей, а я протянул руку и только что хотел позвонить в колокольчик, как вдруг от сильного удара в правый бок повернулся назад и увидел перед собой проклятого козла, который, нагнув голову, готовился повторить свое нападение. Чтоб предупредить этот злой умысел, я схватил задорного Ваську за рога; но ведь этим не могло все кончиться: мне нельзя было позвонить, не выпустив из рук моего злодея, а он того только и дожидался. Этот забияка стоял очень смирно, не порывался, помахивал только бородкою, но я без труда мог прочесть в его лукавых глазах преступное намерение воспользоваться первой моей оплошностью и забодать меня до полусмерти. Не видя никакой возможности избавиться без посторонней помощи от угрожающей мне опасности, я решился прибегнуть к последнему средству, то есть вытащить козла во двор и довести его как-нибудь до моего кучера, но для этого мне надо было пятиться задом и тащить за рога этого дюжего козла, который, как будто бы отгадывая мое намерение, начал упираться, мотать головою и порываться во все стороны. Пока я с ним возился, во дворе у отворенных ворот собралась целая толпа мужиков, ребятишек и всякого рода прохожих; весь этот народ, глядя на мою борьбу с козлом, помирал со смеху.
— Смотри-ка, смотри, — кричал один мужик, — как Васька-то порывается!.. Экий черт здоровенный!.. Барин-то не сдержит — право слово, не сдержит…
— Погоди, погоди!.. — прервал какой-то оборванный мещанин. — Козел-то себе на уме!.. Вот как вырвется, так он его милость потешит!.. Ай да Васька!.. Молодец!.. Смотри, брат, хорошенько барина-то!.. Не поддавайся!..
Разумеется, все эти остроты возбуждали общий смех, да это еще ничего, и я бы на их месте посмеялся над пожилым человеком, который вздумал играть с козлом и таскать его за рога по двору. Но вот что было для меня досадно: все эти уличные зеваки явным образом были на стороне козла и, по-видимому, очень желали посмотреть, как он станет меня бить рогами. Вероятно, они бы и насладились этим потешным зрелищем, если б мой Петр не бросил лошадей и не прибежал ко мне на выручку. В то же время выскочил из передней слуга, а вслед за ним высыпали из застольной, кухни и людских человек двадцать всякого народа. Разумеется, козла схватили, поколотили и увели на конюшню.
— Помилуй, братец, — сказал я слуге, который объявил мне, что барина нет дома, — как это можно пускать по воле такого злого козла?
— Помилуйте, сударь, — отвечал слуга, — да наш Васька такой смиренник…
— Хорош смиренник!.. Совсем было меня изувечил.
— Скажите пожалуйста! Ах, он, проклятый!.. Да что это с ним сделалось?… Уж не вы ли сами изволили его ударить или ногой толкнуть?… Ну, этого он не любит!.. А все мальчишки набаловали.
— Куда прикажете ехать? — спросил Петр.
— Куда?… Разумеется, домой: мне так заложило бок, что я вздохнуть не могу.
В самом деле, бок у меня так разболелся, что я, приехав домой, послал за доктором и целую неделю просидел дома.
Теперь вы знаете, любезные читатели, почему я вместо десяти предполагаемых визитов сделал только четыре и отчего стал менее любить эту простоту нравов и сельский быт многих москвичей, которые живут в Москве точно так же привольно и нараспашку, как привыкли жить у себя в деревнях.
Сокольники, хоть вас поэты не поют,
Не хвалят вас и вашу жизнь простую, -
Но я люблю и ваш приют,
И ваших сосен тень густую.
— Отвори окно, Никифор! — сказал я. — Кажется, дождик перестал.
— Нет еще, сударь, — моросит немножко, словно ситом сеет; да скоро пройдет: позади все прочистилось.
— В самом деле?
— Ни единой тучки, сударь; знатный будет день.
— И подлинно, какой приятный, благорастворенный воздух, — сказал я, садясь подле окна. — Я думаю, будет градусов шестнадцать тепла?
— Нет, сударь, в столовой на градуснике дошло до осьмнадцати.
— В шестом часу после обеда!.. Да это почти летний день… Что это на улице так пусто? — продолжал я, помолчав несколько времени. — Хоть по нашему переулку ни ходьбы, ни езды большой нет, однако ж все-таки изредка и пройдет и проедет кто-нибудь, а вот с полчаса, как живой души не видно на улице.
— Да кому быть, сударь, — вся Москва в Сокольниках.
— В Сокольниках? Да разве сегодня первое мая?…
— А как же, сударь!
— Скажи пожалуйста! Чуть было не пропустил любимого гулянья!.. Ступай, вели закладывать дрожки!.. Да я бы себе никогда этого не простил… Ну, что ж ты стоишь?
— Батюшка Богдан Ильич! — сказал Никифор, почесывая в голове. — Прикажите заложить коляску, да и меня возьмите на запятках с собою: хочется взглянуть на гулянье.
— Ну, хорошо! Да только вели закладывать проворней!
— Разом будет готово, сударь!
Не побывать первого мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником — да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни! Забыть, что сегодня первое число мая!.. Что за странная вещь наша память! Я помню все, что читал тому лет тридцать и более назад; помню малейшие подробности моей детской жизни; помню даже иные сны, которые видел в ребячестве, — но имена и числа, как заколдованный клад, мне не даются. Из всех наук одна хронология была для меня решительно недоступной наукой; я никогда не помню ничьих именин и очень часто забываю имена моих приятелей. Хорошо еще, что у нас на Руси так много сиятельных, которых вместо того, чтоб называть по именам, можно величать графами и князьями. Без этого счастливого обстоятельства я был бы иногда человеком совершенно погибшим.
Через несколько минут вошел ко мне Никифор и доложил, что коляска готова. Мешкать было нечего: от Пресненских прудов до Сокольников будет верст восемь, если не более; я отправился и проехал, не встретив почти никого, до самой Сухаревой башни. Тут стали показываться экипажи; пешеходов было мало, они обыкновенно отправляются на гулянье, как и везде, гораздо ранее. Повернув мимо Спасских казарм, я выехал к Красному пруду, из которого вытекает речка Чечёра.
Я думаю, большая часть московских жителей и не подозревает существования этого ручья, впадающего в Яузу, которая столь же мало имеет права называться рекою, как этот проток — речкою. Впрочем, это общая привычка русского народа: он любит называть речками не только едва заметные ручьи, но даже стоячие, грязные пруды, — и крестьянка, отправляясь мыть белье на свою запруженную лужу, всегда скажет: «Я иду на речку». Когда я миновал Красный пруд, сцена совершенно переменилась: передо мною открылось большое плоское пространство, усеянное экипажами и бесчисленными толпами запоздалых пешеходов. Кареты, коляски, дрожки и щеголеватые купеческие тележки неслись шибкой рысью врассыпную по обширному Сокольничьему полю; большая часть из них съезжалась на деревянном мосту, перекинутом через другой ручей, который также, не знаю почему, называют речкой Рыбенкою. Вот вдали, на темно-зеленом поле сосновой рощи, окаймленной красивыми дачами, обрисовались белые столбы Сокольничьей заставы. Вот налево замелькали разноцветные кровли Красного села — села, в котором нет ни приходской церкви и ни одной крестьянской избы. Это собрание не дач, а загородных домиков, составляющих несколько улиц и переулков, походит на красивый уездный городок, в котором не построены еще соборный храм, гостиный двор и не устроена базарная площадь с присутственными местами. На левой руке, в близком расстоянии от заставы, была некогда знаменитая дача графа Растопчина. Теперь остались одни развалины дома и запустелый сад, по дорожкам которого растет трава и ездят иногда для сокращения пути мужички в своих телегах. Тут же проходит и водопроводный канал мытищинской воды, подымаемой посредством паровой машины в резервуар Сухаревой башни. От самой заставы начинается сосновая роща или, лучше сказать, бор, который примыкает к огромной лесной даче, известной под названием Лосиного острова. До заставы я ехал свободно и попал в веревку, или ряд экипажей, тогда только, когда въехал в широкую просеку, ведущую к обширному лугу. По обеим сторонам этой просеки толпился народ, а посреди двух рядов экипажей разъезжали разных родов кавалеристы: в мундирах, фраках, сюртуках и венгерках. Одни галопировали с большою ловкостью между каретных колес и, вероятно ради удальства, гарцевали и рисовались в самых тесных местах, заставляя прыгать своих борзых коней, покрытых пеною. Другие вели себя гораздо степеннее, ездили шажком, не вдавались ни в какие опасности и не тиранили своих лошадей, они, конечно, не обращали на себя внимания публики, но зато и не были смешны, как иные из этих лихих наездников, из которых один при каждом прыжке своей лошади бледнел как смерть и почти вслух творил молитву, а другой вследствие неудачной лансады перекувырнулся на воздухе и упал — к счастию, не под колеса, а подле колеса проезжающей кареты. Я после встретил его в роще и слышал, как он рассказывал какой-то даме, что лошадь его опрокинулась и хотя упала с ним вместе, однако ж никак не могла выбить его из седла. Более всех забавлял меня один щеголь — настоящая карикатура английского денди. Длинный, худой, с маленькой бородкою, в коротком сюртуке и цветном галстуке, он сидел на каком-то лошадином привидении, и ростом и статями похожем на чахлого верблюда; эта скаковая кровная кляча с отрубленным хвостом удивительно жеманилась: то пятилась боком, то припрыгивала, то скребла ногою землю, шла задними ногами в галоп, а передними рысью и при каждом ударе хлыста лягалась и перебрасывала своего ездока с седла к себе на шею. Он, впрочем, не терял никак от этого своей уверенности, сидел подбоченясь и сквозь стекло своей лорнетки, воткнутой в правый глаз, глядел на всех с таким величием и гордостью, что невозможно было от смеху удержаться.