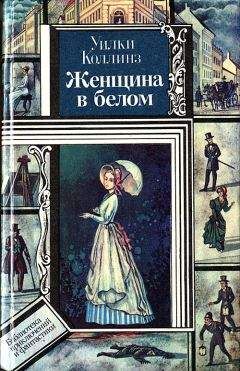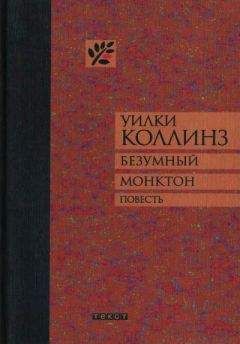— Я ухожу, ибо уже напился и наелся, — отвечал граф. — Будьте снисходительны, Персиваль, к моей иностранной привычке уходить и приходить вместе с дамами.
— Ерунда! Лишний стакан бордосского не повредит вам! Посидите со мной, как англичанин. Я хочу спокойно поговорить с вами за стаканом вина.
— Я приветствую спокойный разговор всем сердцем, Персиваль, но не сейчас и не за стаканом вина. Попозже вечером — с удовольствием, попозже вечером.
— Куда как вежливо! — в ярости сказал Персиваль. — Вежливое обращение с хозяином дома, клянусь честью!
За обедом я много раз видела, как он нерешительно поглядывал на графа, тогда как граф избегал смотреть на него. Это обстоятельство в совокупности с настойчивым желанием хозяина поговорить о чем-то и упрямая решимость гостя избежать разговора напомнили мне, что сэр Персиваль и днем напрасно просил своего друга выйти из библиотеки, чтобы поговорить с ним. Граф уклонился от переговоров днем и снова уклонялся от этого после обеда. Какими бы ни были эти переговоры, они, очевидно, представляли большую важность для сэра Персиваля — и, возможно, некоторую опасность для графа, судя по его неохоте разговаривать со своим другом.
Эти мысли промелькнули у меня в голове по дороге из столовой в гостиную. Сердитое восклицание сэра Персиваля по поводу того, что его приятель оставлял его одного в столовой, по-видимому, не произвело никакого впечатления на графа. Он упрямо проводил нас до чайного столика, подождал с минуту в комнате, вышел в холл и вернулся с почтовой сумкой в руках. Было восемь часов. В это время письма из Блекуотера отсылались на станцию.
— Нет ли у вас писем для отправки, мисс Голкомб? — спросил граф, подходя ко мне с почтовой сумкой.
Я увидела, как мадам Фоско, разливавшая чай, замерла со щипчиками для сахара в руках, чтобы услышать мой ответ.
— Нет, граф, благодарю вас, у меня нет сегодня писем.
Он отдал сумку слуге, находившемуся в комнате, сел за рояль и заиграл веселую неаполитанскую уличную песенку «Моя Каролина», которую повторил дважды. Жена его, обычно самая медлительная из женщин, приготовила чай с такой быстротой, с какой сделала бы это я, мгновенно выпила свою чашку и тихо выскользнула из комнаты.
Я хотела последовать ее примеру, отчасти боясь, что она попытается причинить Лоре какую-нибудь неприятность, отчасти оттого, что решила не оставаться наедине с ее мужем.
Прежде чем я успела дойти до порога, граф остановил меня, попросив налить ему чаю. Я подала ему чашку и снова попыталась уйти. Он опять остановил меня; на этот раз он сел за рояль и обратился ко мне по поводу одного музыкального вопроса, который, как он заявил, задевал честь его страны.
Напрасны были мои уверения, что я совершенно незнакома с музыкой вообще, не разбираюсь в ней и не имею к ней никакого вкуса. Он воззвал ко мне с неистовой пылкостью, прекратившей все мои дальнейшие возражения.
Англичане и немцы, провозгласил он с негодованием, всегда презирали итальянцев за их неспособность заниматься серьезной музыкой. Англичане постоянно твердят о своих ораториях, а немцы постоянно твердят о своих симфониях. Разве все мы позабыли его бессмертного друга и земляка Россини? Разве «Моисей в Египте» не является божественной ораторией, которую можно петь на сцене, вместо того чтобы холодно исполнять ее в концертах? Разве увертюра к «Вильгельму Теллю» не симфония, только названная по-другому? Знакома ли я с музыкой оперы «Моисей в Египте»? Не прослушаю ли я это, и это, и еще это для того, чтобы убедиться, что ничего более божественного и великого не было создано ни одним из смертных? И, не ожидая моего согласия или отказа, не спуская с меня своих стальных глаз, он начал оглушительно колотить по клавишам и петь с громогласным, безудержным восторгом, останавливаясь только для того, чтобы с неистовым пылом объявить мне название музыкального отрывка: «Хор египтян во мгле кромешной, мисс Голкомб!»… «Речитатив Моисея перед скрижалями с заповедями»… «Молитва израильтян при переходе через Красное море». Ага! Ага! Разве это не божественная музыка? Разве это не потрясающая музыка? Рояль ходил ходуном под его мощными руками, чайные чашки дребезжали на столе, а он пел во все горло своим мощным басом, отбивая такт огромной ножищей.
Было нечто ужасное, нечто свирепое и дьявольское в его бурном ликовании по поводу собственной игры и пения и в торжестве, с которым он наблюдал произведенное на меня впечатление, тогда как я все дальше и дальше отступала к двери. Наконец я освободилась не собственными усилиями, но благодаря сэру Персивалю. Он открыл дверь столовой и сердито крикнул:
— Что это за адский грохот?!
Граф сейчас же встал из-за рояля.
— Увы, там, где Персиваль, гармонии и мелодии конец, — сказал он. — Муза музыки, мисс Голкомб, в отчаянии покидает нас, и мне, старому, толстому менестрелю, придется излить остаток своего энтузиазма на открытом воздухе!
Он величественно вышел на веранду и, засунув руки в карманы, начал вполголоса исполнять в саду речитатив Моисея.
Я слышала, как сэр Персиваль окликнул его через окно столовой. Но он не обратил на это никакого внимания. Казалось, он был твердо намерен ничего не слышать. Долгожданный спокойный разговор между ними все еще откладывался, все еще зависел от доброй воли и расположения самого графа.
Он задержал меня в гостиной на целых полчаса после ухода своей супруги. Где же она находилась и чем она была занята в этот промежуток времени?
Я пошла наверх, чтобы узнать об этом, но ничего не узнала. Когда я спросила Лору, оказалось, что она ничего не слышала. Никто ее не беспокоил, никакого шуршания шелковых юбок не доносилось до нее ни из передней, ни из коридора.
Было уже без двадцати девять, я пошла в свою комнату за дневником, вернулась и посидела с Лорой, то занимаясь своими записями, то разговаривая с ней. Никто не подходил к нам близко, ничего не случилось. Мы пробыли вместе до десяти часов. Затем я поднялась, сказала ей несколько одобрительных слов на прощанье и пожелала спокойной ночи. Она снова заперлась на ключ, после того как мы условились, что первым долгом я навещу ее утром.
Мне оставалось дописать еще несколько фраз в моем дневнике, прежде чем лечь спать. Расставшись с Лорой, я в последний раз за этот мучительный день спустилась в гостиную просто для того, чтобы показаться, извиниться и уйти спать на час раньше обычного.
Сэр Персиваль и граф с супругой сидели там. Сэр Персиваль зевал в кресле, граф читал, а мадам Фоско обмахивалась веером. Как это ни странно, лицо ее горело. Она, никогда не страдающая от жары, безусловно страдала от нее сегодня вечером.
— Боюсь, графиня, что вы чувствуете себя хуже, чем обычно? — спросила я.
— Я только что хотела сказать вам то же самое, — отвечала она. — Вы очень бледны, моя дорогая.
«Моя дорогая»! В первый раз она обращалась ко мне с такой фамильярностью! Когда она произнесла эти слова, на лице ее появилась дерзкая улыбка.
— У меня одна из моих обычных мигреней, — холодно отвечала я.
— Вот как? Наверно, из-за того, что вы не гуляли сегодня. Прогулка перед обедом была бы очень полезна для вас. — Она как-то странно подчеркнула слово «прогулка». Уж не заметила ли она, как я уходила? Ну так что ж, теперь письма были уже в целости и сохранности у Фанни.
— Пойдем покурим, Фоско, — сказал сэр Персиваль, поднимаясь и бросая нерешительный взгляд на своего приятеля.
— Когда дамы пойдут спать — с удовольствием, Персиваль, — отвечал граф.
— Простите меня, графиня, если сегодня я уйду первая, — сказала я. — Единственное лекарство от такой головной боли, как моя, — это сон.
Я попрощалась. Когда я пожимала руку этой женщины, на лице ее по-прежнему играла дерзкая улыбка. Сэр Персиваль не обратил на меня никакого внимания. Он нетерпеливо посматривал на мадам Фоско, но она, по-видимому, вовсе не собиралась ложиться спать. Граф, сидя за книгой, улыбался про себя. Для спокойного разговора с сэром Персивалем опять возникло препятствие — на этот раз им была графиня.
IX
19 июня
Когда я наконец очутилась одна в своей комнате, я открыла дневник и приготовилась продолжать мои записи о сегодняшнем дне.
Минут десять я сидела с пером в руке, размышляя о событиях за последние двенадцать часов. Когда наконец я принялась за дело, передо мной встало затруднение, которого я никогда раньше не испытывала. Несмотря на все мои усилия сосредоточиться, мысли мои с непонятной настойчивостью возвращались к сэру Персивалю и графу. Вместо дневника все мое внимание было устремлено на разговор, который откладывался в течение целого дня и должен был произойти в одиноком безмолвии ночи.
Пребывая в этом непривычном настроении, я совершенно не могла заставить себя припомнить, что произошло утром. Мне ничего другого не оставалось, как отложить дневник и позабыть о нем на некоторое время.