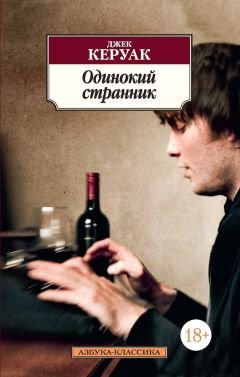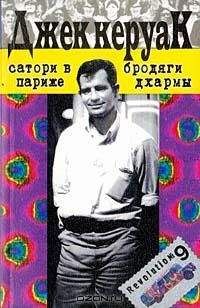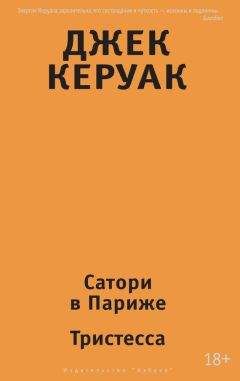видно до конца улиц, больше никакой тьмы
garbanzo, сплошь голубые церкви и бледные люди, и розовые платки — Мы шагаем дальше и подходим к щебневым полям, и пересекаем, и выходим на селенье из саманных лачуг.
Это деревня в городе сама по себе.
Встречаем женщину и заходим в комнату, и я прикидываю, что здесь-то мы наконец поспим, но две кровати загружены спящими и просыпающимися, мы просто стоим и беседуем, уходим и спускаемся по переулку мимо пробуждающихся дверей — Всем любопытно видеть двух оборванных девушек и оборванца-мужчину, что спотыкаются медленной командой среди зари — Солнце всходит оранжевое над кучами красного кирпича и штукатурной пыли где-то, это крохотная Северная Америка моих индейских снов, но я уже слишком пропащ, чтобы осознать что-то или понять, хочу только спать, рядышком с Тристессой — Она в своем откровенном розовом платьице, ее безгрудое тельце, ее худые голени, ее прекрасные бедра, но желаю лишь спать, но хотелось бы обнимать ее и перестать дрожать под каким-нибудь обширным темно-бурым мексиканским одеялом, еще и с Крус с другой стороны, для надзора, хорошо б только закончилось это безумное скитание по улицам.
Бесполезняк, на краю деревни, в последнем доме, за которым поля свалоки, далекие церковные верхушки, и заволочный город, мы входим.
Ну и дела! Я подпрыгиваю от восторга при виде огромной кровати — «Мы пришли сюда спать!»
Но в постели большая толстая женщина с черными волосами, а подле нее какой-то парень в лыжной шапочке, у обоих сна ни в одном глазу, и в то же время заходит девушка-брюнетка, похожая на какую-то художницу-битницу в Гринич-Виллидж. Затем я вижу десять, может, восемь других людей, которые вокруг тусят в углах с ложками и спичками. Один типичный торчок, эта драная нежность, эти грубые и мучимые черты, покрытые серой больной патиной, глаза определенно настороже, рот начеку, шляпа, костюм, часы, ложка, героин, быстро бодяжит — Все шпигаются — Тристессу подзывает один мужчина, и она закатывает рукав пальто. Крус тоже. Лыжная Шапочка соскочил с кровати и делает то же самое. Девка из Гринич-Виллидж как-то скользнула в постель, в ногах, засунула свое большое чувственное тело под простыни с другого конца и лежит там, довольная, на подушке, смотрит — Люди входят и выходят с деревенской наружи — Я рассчитываю тоже получить укол и говорю одному кошаку «Poquito gote», что, я воображаю, значит капельку попробовать, а на самом деле «чуточку протекает» — И впрямь протечка, мне ничего не достается, все деньги у меня тю-тю.
Суета неистова, интересна, человечна, я наблюдаю поистине в изумлении, как бы обдолбан ни был, вижу, что это, должно быть, крупнейшая видла в Латинской Америке — Какие интересные типажи! Тристесса тараторит без продыху — Ошляпенный торчок с грубыми и нежными чертами, с песочными усиками и слабо голубыми глазами, и с высокими скулами — мексиканец, но выглядит в точности, как любой торчок из Нью-Йорка — Тоже не хочет меня жалить — Я просто сижу и жду — у моих ног полбутылки пива, которую мне купила Тристесса en route, я ее заныкал в одежду, а теперь тяну из нее перед всеми этими торчками, и это мне вообще никаких шансов не оставляет — Зорко присматриваюсь к кровати, рассчитывая, что толстая дама встанет и уйдет, и художница у нее в ногах, но лишь мужчины тут шебуршат, и одеваются, и выходят, и наконец мы уходим тоже.
«Куда мы?»
Выходим оттуда по ширниковой подсказке скрещенными мечами глаз, мол, мьё ай знаете, старый прогон сквозь строй, респектабельных буржуазных мексиканцев поутру, но нас никто не останавливает, никаких легавых; мы вываливаемся наружу и вниз по узкой земляной улочке, и вверх к еще одной двери, а внутри старый дворик, где старик метлой подметает, и многие голоса изнутри — Он глазами умоляет меня о чем-то, вроде «Только не бедокурь», я делаю знак «Я бедокурить?», но он стоит на своем, поэтому я медлю заходить, но Тристесса и Крус уверенно тащат меня, и я озираюсь на старика, который дал свое согласие, но все равно молит взглядом — Боже праведный, он знал!
Тут что-то вроде неофициального утреннего кайф-бара, Крус заходит в темные шумные интерьеры и появляется с чем-то вроде слабой анисовки в стакане для воды, и я пробую — не особенно-то мне и хочется — Просто стою у саман-стены, гляжу на желтый свет — Крус теперь смотрится абсолютно полоумной, с высокими волосатыми зверскими ноздрями, как у Ороско, бабы орут в переворотах, но, тем не менее, ей как-то удается смотреться и изысканно — Кроме того, что она изысканная маленькая личность, я и про ее душу, всю ночь напролет она была со мной очень мила, и я ей нравлюсь — Фактически она как-то раз орала по пьяни: «Тристесса, ты ревнивая, потому что Як хотел на мне жениться!» Но она знает, я люблю нелюбляемую Тристессу, поэтому она меня усестрила, и мне это понравилось — у некоторых бывают такие флюиды, что исходят прямо из вибрирующего сердца солнца, незаезженные…
Но пока мы там стоим, Тристесса вдруг говорит: «Як» (я) «всю ночь» — и давай изображать, как я дрожу на всеночной улице; поначалу мне смешно, солнце теперь желто-жаркое у меня на куртке, но мне тревожно видеть, как она изображает мою дрожь с такой судорожной серьезностью, и Крус это замечает и говорит: «Хватит, Тристесса!», но та продолжает, глаза у нее дикие и белые, дрожит всем своим худым телом в пальто, ноги начинают подгибаться — я тянусь смеясь: «Ай да ладно» — ее же ежит больше, и спазмы уже, как вдруг (покуда я думаю: «Как она может меня любить, насмехаясь надо мной вот эдак серьезно»), она давай падать, кое изображение зашло уж слишком далеко, я пытаюсь ее схватить, она сгибается до самой земли и висит с минуту (совсем как в тех описаниях, что мне только что давал Бык, героиновых наркоманов в откидоне до самых башмаков своих на Пятой авеню в эпоху 20-х, до самого низу, пока голова у них не виснет совсем на шеях, и двинуться некуда, только вверх либо плашмя прямо на темечко), и к боли моей и хрясть, Тристесса берет и тяпает черепом оземь, и падает головой прямо на жесткий камень, и отключается.
«Ох, нет, Тристесса!» — кричу я и хватаю ее под руки, и перевертываю ее, и сажаю себе на корточки, а сам опираюсь на стену — Она дышит тяжко,