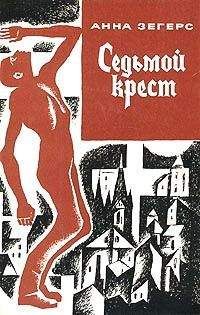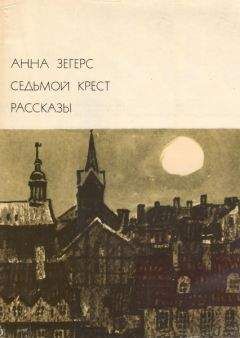Циллиг через открытую дверь заглянул в сад. Свет осеннего солнца золотистыми пятнами падал между листьями каштанов на пустые столы, уже покрытые свежими скатертями в красную клетку – завтра воскресенье. Циллиг отвернулся. Даже это напоминало ему обычные воскресенья, его былую жизнь, гнусное мирное время. Он остался у стойки. Попросил еще стакан. Немногие посетители, решившие, как и Циллиг, отведать молодого вина, отошли от стойки. Они смотрели на Циллига исподлобья. Циллиг не замечал наступившей вокруг него тишины. Он пил третий стакан. Кровь уже шумела у него в ушах. Но на этот раз от вина не стало легче. Напротив, глухой страх, наполнявший все его существо, еще возрос. Ему рычать хотелось. Уже с детства был ему знаком этот страх. Он не раз толкал его на самые ужасные, самые отчаянные поступки. Это был обыкновенный человеческий страх, хотя и выражался он по-звериному. Врожденная сметливость Циллига, его гигантская сила так и остались с юных лет придавленными, неприкаянными, ненаправленными, неиспользованными.
Будучи на войне, Циллиг открыл средство, которое успокаивало его. Вид крови действовал на него не так, как он действует обычно на убийц, давая какое-то опьянение, которое можно заменить и другим видом опьянения; Циллиг при виде крови успокаивался, успокаивался так, словно это его собственная кровь текла из смертельной раны; точно он делал себе кровопускание. Он смотрел, успокаивался, потом уходил. После этого и сон его бывал особенно безмятежен.
За столом в трактире сидело несколько членов гитлерюгенда, среди них Фриц Гельвиг и его руководитель Альфред, тот самый Альфред, который еще на прошлой неделе был для Фрица неоспоримым авторитетом. Трактирщик приходился Гельвигу дядей. Молодые люди пили сладкий сидр; перед ними стояла тарелка с орехами, и они щелкали их, а ядрышки бросали в сидр, чтобы те пропитались напитком. Компания строила планы насчет воскресной экскурсии. Альфред, загорелый, живой малый с вызывающим взглядом, уже научился сохранять какое-то неуловимое расстояние между собой и своими сверстниками. С той минуты, как Циллиг появился в трактире, Фриц перестал принимать участие в разговорах и в щелканье орехов. Взор Фрица был прикован к его спине; он тоже знал Циллига в лицо. Он тоже кое-что слышал об этом человеке. Но раньше Фриц никогда над этим не задумывался.
Сегодня утром Гельвига вызвали в Вестгофен, и после бессонной ночи он, с отчаянно бьющимся сердцем, явился на вызов. Там его ждала большая неожиданность. Ему сказали, чтобы он отправлялся домой, следователи уехали, все вызовы свидетелей отменены. С чувством безмерного облегчения Фриц направился в школу. Все было в полном порядке, исключая его куртки, но теперь она меньше всего его беспокоила. С каким рвением он отдался сегодня работе, тренировке, общению с другими! Садовника Гюльтчера он избегал. Зачем Фриц так разоткровенничался с этим старикашкой, с этим дурацким курилкой! Весь день Фриц был прежним Фрицем, таким же, как и на прошлой неделе. И с чего он так растревожился? Что он совершил? Пробормотал несколько слов? Едва уловимое «нет»? Никаких последствий все это не имело. А ведь если что-нибудь не имело последствий, его все равно что и не было. Еще пять минут назад Фриц был веселее всех мальчиков за столом.
– На что ты так уставился, Фриц?
Он вздрогнул.
Кто этот Циллиг? Какое мне до него дело? Что у меня может быть общего с таким Циллигом? Какое нам дело до него? Правда ли то, что говорят про него люди?
А может быть, это и в самом деле была вовсе не та куртка? Есть ведь люди, похожие друг на друга как две капли воды, отчего же не быть похожими и двум курткам? Может быть, все беглецы уже пойманы, и мой тоже? Может быть, он уже заявил, что куртка не его? Неужели это Циллиг – такой же, как мы, как Альфред? Правда ли все, что о нем говорят? Какое дело до него нам? Отчего и моего должны поймать? Отчего он бежал? За что его посадили в лагерь?
Фриц не сводил недоумевающих глаз с мощной коричневой спины Циллига. А Циллиг приступил к пятому стакану.
Вдруг перед трактиром остановился мотоцикл. Эсэсовец, не вставая с сиденья, крикнул в дверь:
– Эй, Циллиг!
Циллиг медленно обернулся. У него было лицо человека, который еще и сам не решил, трезв он или пьян. Фриц внимательно следил за ним. Он и сам не знал, почему так следит. Его друзья просто взглянули и вернулись к своему разговору.
– Садись, поедем! – крикнул эсэсовец. – Они там прямо обыскались тебя. А я сказал – держу пари, что ты здесь.
Циллиг вышел из трактира несколько отяжелевшей походкой, но держась прямо и твердо. Его страх рассеялся. Значит, он все-таки нужен, его ищут. Он сел позади эсэсовца, и оба укатили.
Вся эта сцена продолжалась не больше трех минут. Фриц повернулся боком, чтобы видеть их отъезд. Его испугало лицо Циллига, а также взгляд, которым он обменялся с приехавшим. Фрицу стало холодно Какая-то тревога сжала его юное сердце, какое-то предчувствие – что-то, что, по мнению одних, присуще человеку от природы, по мнению других – приобретается опытом, по мнению третьих – вовсе не существует. Тем не менее что-то продолжало волновать и тревожить Гельвига, пока шум мотоцикла не замер вдали.
– Зачем я вам понадобился?
– Из-за Валлау. Бунзен его еще раз допрашивал.
Они направились к бараку, где в начале недели жили Оверкамп и Фишер. Перед дверью толпилась беспорядочная кучка эсэсовцев и штурмовиков. Бунзен, видимо занявший место Оверкампа, время от времени вызывал кого-нибудь. Всякий раз, как он открызал дверь, люди с нетерпением ждали, кого он теперь потребует.
Когда Валлау повели в барак, в нем ожила слабая надежда, что Оверкамп еще здесь и что предстоит только -повторение бесполезного допроса. Но он увидел лишь Бунзена и этого Уленгаута, о котором говорили, что он будет преемником Циллига и возглавит охрану штрафной команды. И по лицу Бунзена он понял, что это конец.
Все ощущения Валлау слились в одно-единственное ощущение жажды. Какая терзающая жажда! Никогда уж не утолить ее! Вся влага в его теле высохла до последней капли. Он иссыхает! Какой огонь! Ему чудится, что все его суставы дымятся и все вокруг словно превратилось в пар, гибнет весь мир, а не только он, Валлау.
– Оверкампу ты ничего не пожелал сказать. Ну, а мы с тобой столкуемся. Гейслер был твоим дружком. Он тебе все говорил. Живо – как имя его невесты?
Значит, они пока все-таки не поймали его, подумал Валлау, еще раз забыв о себе, о собственной неминуемой гибели. Бунзен видел, как глаза Валлау вспыхнули. Кулак Бунзена отбросил его к стене.
Бунзен заговорил, и его голос звучал то глухо, то громко:
– Уленгаут! Внимание! Ну, так как же ее зовут? Имя забыл? Ну, я сейчас напомню!
Когда Циллига везли полями в Вестгофен, Валлау уже лежал на полу барака. И ему казалось, что лопается не его голова, а весь этот хрупкий, зыбкий мир.
– Имя! Как ее имя? Вот тебе! Эльза? Вот тебе! Эрна? Вот тебе! Марта? Фрида? Получай! Амалия? Получай! Лени?…
Лени – Лени – в Нидерраде! И зачем Жорж мне тогда назвал это имя? Зачем я вспомнил его? Отчего они не продолжают свое «вот тебе»? Неужели я что-нибудь сказал? Неужели выскочило?
– Вот тебе! Катарина? Вот тебе! Альма? Вот тебе! Подождите, пусть сядет!
Бунзен выглянул за дверь, и от искр, горевших в его глазах, вспыхнули такие же искры во всех обращенных к нему глазах. Увидев Циллига, он поманил его рукой.
Залитый кровью, Валлау сидел, привалившись к стене. Циллиг, войдя, спокойно посмотрел на него. Слабый свет за плечом Циллига, крошечный голубой уголок осени, в последний раз напомнил Валлау о том, что законы вселенной нерушимы и будут жить, несмотря ни на какие потрясения. Циллиг приостановился. Еще никто не встречал его таким спокойным, таким независимым взглядом.
Это смерть, подумал Валлау. Циллиг медленно притворил за собой дверь.
Было шесть часов пополудни. Больше никто не присутствовал при этом. Но в следующий понедельник на заводе Опеля, где Валлау был некогда членом заводского комитета, из рук в руки переходила записка:
«Бывший председатель нашего заводского комитета, депутат Эрнст Валлау зверски убит в Вестгофене в субботу, в шесть часов вечера. Когда придет день расплаты, беспощадная месть постигнет палачей».
В субботу вечером заключенные увидели, что дерево Валлау пусто, и трепет прошел по их рядам. Свинцовый гнет, нависший над лагерем, внезапное возвращение Циллига, сдавленный шум, скопление штурмовиков – все это подсказало им правду. Заключенные уже были не в силах подчиняться своим тюремщикам, хотя они рисковали жизнью. Одним делалось дурно, другие не могли стоять спокойно – все какие-то ничтожные заминки, но в целом они нарушали суровый порядок. Постоянные угрозы, все более тяжелые наказания, эксцессы штурмовиков, которые теперь каждую ночь неистовствовали в бараках, уже никого не могли устрашить, все и без того считали себя обреченными.