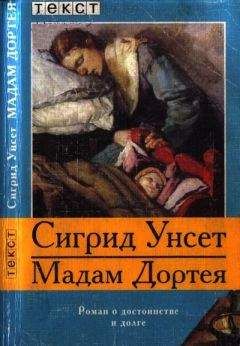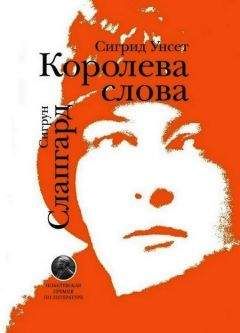Этот парень получил по заслугам. На войне ему приходилось убивать людей куда достойнее Тейта, и после он никогда о том не думал. Ингунн можно жалеть, но этого… никогда! Хорошо, коли его некому пожалеть ни здесь, ни у него на родине: тогда невинному не придется горевать о том, что виноватый наказан. Годы, прожитые сперва у дяди, потом у ярла, закалили Улава. За что его жалеть, Тейта, он по своей вине лежит здесь. И так снова… круг за кругом…
Он вскочил… Нет, ему просто приснилось, будто Тейт стоит в дверях и протягивает ему ковш. Он лежит там, где лежал, и будет лежать. Да нет же, Тейт, я не боюсь тебя! А коли мне и страшно, так у тебя не хватало ума понять, чего я боюсь. Бедная Ингунн, лапушка моя, тебе-то уж меня бояться нечего… Сон снова слетел с него.
Теперь надо было ломать голову, как сбросить с себя новую ношу. Признаться в убийстве на первом же хуторе, когда он доберется до обжитых мест? И снова суд, а он еще не рассчитался со старым делом – не выплатил пеню, да и с королевским судом не разделался. И знать, что злые языки болтают за его спиной: что мог такой человек, как он, не поделить с исландским бродягой? Не иначе как тут замешана Ингунн, дочь Стейнфинна. Подумать только…
А что ему делать с мертвецом?
Сколько раз он видел, как люди достойные падали за борт и шли ко дну. Сколько честных сыновей датских бондов осталось лежать на съедение волкам и коршунам после сражений с ярлом. Но то было дело ярла, а не его; еще ни разу мертвец не оставался лежать не погребенным по его вине. А коли он столь слаб, что убийство такого поганца, как Тейт, соблазнителя его жены, тяготит его, так под силу ли ему новая ноша, ведь это и в самом деле грех. Это бремя он, верно, никогда не сумеет сбросить со своих плеч.
Но ведь признай он открыто, что убил Тейта, они уже не смогут даже притворяться, что честь Ингунн спасена.
Под конец он, видно, уснул и спал долго, без сновидений… Когда он открыл глаза, в щели между бревнами светило солнце. В очаге было черно. Ветер, видно, улегся, вблизи и вдали ни одного звука, кроме бормотанья тетеревов на току да похожих на звуки флейты запоздалых криков утренних птиц.
Он встал, потянулся и протер глаза. Рука занемела и слегка ныла, хотя терпеть было можно. Он подошел к двери и выглянул наружу. Весь мир был белый, высокое солнце сияло на синем безоблачном небе.
Туман стлался низко по земле, словно белое море, позолоченное солнцем, окаймленное горными кряжами и высокими холмами, которые выступали из него, тоже запорошенные золотившимся на солнце только что выпавшим снежком. На белом ковре луга играли красные и синие искры, заяц и птица уже успели оставить свои следы на снегу, а из лесу отовсюду доносился шумок – токовали тетерева.
Он стоял один-одинешенек в этой глухомани, в белом царстве дремучих, запорошенных снегом лесов, не зная, где ему спрятать жалкие останки убитого им человека. Разрыть снежный покров, закопать его… нет, этого он не сделает. Надо придумать что-нибудь, чтобы звери не добрались до него. Оставить мертвеца лежать здесь, покуда его не найдут люди, приехав в сетер, никак нельзя – узнают убитого, и все откроется.
В сугробе у стены стояли две пары лыж, запорошенные снегом. Улав выбрал хорошую пару, ту, что взял в монастыре, отряхнул лыжи и положил на снег. Он крепко стиснул зубы, лицо его словно окаменело.
Он вошел в дом и застелил постель, принес мертвое тело и попытался распрямить его. В волосах застряли застывшая кровь и мозг, но окаменевшее, серое лицо было чисто. До чего же противно разинул пасть этот Тейт. Улав никак не мог закрыть ему рот и глаза. Тогда он прикрыл лицо мертвеца изношенной окровавленной меховой шапкой.
На дне очага под золой еще были искры, он положил туда бересту, хворост и много дров; огонь быстро разгорелся. В чулане лежала охапка сена. Улав притащил ее в комнату и бросил на пол между очагом и постелью. Наткнувшись на меч Тейта, он поднял его и положил юноше на грудь. Потом отодрал пястку бересты, взял пучок хвороста и бросил все это на сено, лежавшее на полу.
Огонь в очаге горел вовсю. Улав вытащил головню и бросил ее на сено – береста съежилась, затрещала, вспыхнула, пламя взметнулось к потолку. Улав выбежал из дома, схватил лыжи под мышку и побрел вверх по заснеженному склону. На вершине холма, там, где старый наст сдуло ветром, он остановился, нагнулся, крепко привязал лыжи к ногам и взялся за палки. Однако он не покатил сразу, а постоял, покуда не увидел, как изо всех щелей дома потянулись серые клубы дыма. Он стал читать про себя молитвы, хотя при этом его охватил страх, – а вдруг это кощунство? И все же что-то заставляло его молиться – ведь там лежит покойник, и он должен о нем помолиться.
Он только сейчас вспомнил, что забыл свой топор в домике и мешок оставил там, хотя и пустой. Сейчас там горят и ушат с сывороткой, и горка хлебцев. Хоть это и пустяк в сравнении с другим… но… Он никогда не пренебрегал дарами господними – поднимет с полу уроненный им кусок хлеба и поцелует его, прежде чем съесть. Это было, пожалуй, единственное, что он запомнил из поучений прадеда.
Да какого черта! Во время войны он видел, как битком набитые амбары и целые крестьянские дворы погибали в пламени. И люди получше этого исландца оставались в огне и мертвыми, и живыми. Так почему же ему должно казаться, что сейчас он поступает много хуже?
В старину люди вот так сжигали своих хевдингов, павших в бою. Слышишь, Тейт, я зажег для тебя костер, как королю малого королевства, и твой добрый меч у тебя на груди, а еда и питье рядом.
Дым все валил и валил, скоро он скрыл весь домишко. Внутри полыхало пламя, первые языки его вырвались наружу из-под стрех. Улав быстро покатил с горы наугад – лыжню засыпало.
Когда они придут сюда летом, то, уж верно, найдут его кости на пожарище, – пытался он утешить себя. И Тейт в конце концов ляжет в освященную землю.
Он пустился вниз по руслу ручья так быстро, что снег разлетался в стороны и в ушах у него свистело, одним махом перелетел через лощинку, остановился на другой стороне и оглянулся. До чего же красиво изгибалась лесистая гряда, с которой он только что спустился, – укутанная снегом, позолоченная солнцем, а над нею синее небо. В одном месте над грядою поднималось маленькое темное дымное облачко.
Я отомстил тому, кто осквернил супружеское ложе. Разве не смеет муж держать ответ за подобное деяние пред лицом Господа?.. Видит бог, он пал с мечом в руках.
Через час он, проехав между кольями изгороди, очутился на огороженном белом поле. Поодаль стояли дома, некоторые из них вовсе завалило снегом, но над одной крышей тянулась струйка дыма. Из дома в хлев вели следы, а на навозную кучу недавно что-то выплеснули.
Улав прошел немного по полю, остановился и огляделся. Мир был золотисто-белый, с голубыми тенями. Внизу, далеко на севере, он увидел широкое дно долины, где раскинулись большие усадьбы.
Сказать, что он вечером накануне поссорился с товарищем и дело кончилось тем, что они схватились за оружие. А тут головня выпала на солому?..
Он рванулся вперед и помчался дальше через выгон.
К вечеру он пришел в Миклебе. Арнвида не было дома, он еще позавчера отправился с двумя сыновьями в лес поглядеть, как токуют глухари. Но домочадцы ласково встретили лучшего друга своего хозяина.
На другой день на заходе солнца Улав стоял на туне, когда воротился Арнвид с сыновьями. Магнус вел под уздцы коня. У всех у них были на ногах снегоступы, конь был навьючен мешками и прочей поклажей, связками нарядных птиц. Арнвид со Стейнаром тоже нагрузились всякой всячиной – лыжами, луками да пустыми колчанами. Арнвид приветствовал гостя спокойно и сердечно, сыновья – искренне и обходительно. Оба они сильно выросли – пригожие белокурые подростки, добрые из них будут мужи.
– Как видишь, я передумал.
– Вот и ладно. – Арнвид улыбнулся.
– Неужто ты шел по лесу безоружный, с одним лишь маленьким копьем? – спросил Арнвид, когда они сидели и толковали о том о сем, пока челядинцы накрывали на стол.
Улав ответил, что у него с собой был еще и топор, да только он обронил его вчерашним вечером, когда рубил еловые ветки себе на подстилку. Он набрел на домишко на сетере и заночевал там… нет, как это место называется, он не знает. Гродальебуден? Может, это оно и есть. Нет, в темноте он не мог отыскать топор, да и снег был такой рыхлый. К слову сказать, топор задел ему руку, когда он уронил его.
Перед тем как они улеглись спать, Арнвид захотел поглядеть на его рану. Порез был чистый, ровный, похоже, что быстро заживет. Однако Арнвид не мог понять, как Улав ухитрился поранить себя в таком месте. Ну да, старые топоры с длинной острой бородкой вверху и внизу и впрямь капризные, рубить еловые лапы ими никак не годится.
Ингунн родила на третий день после праздника святого Халварда. Когда Тура подняла младенца с пола, роженица обхватила голову руками и закричала, будто боялась увидеть и услышать его.