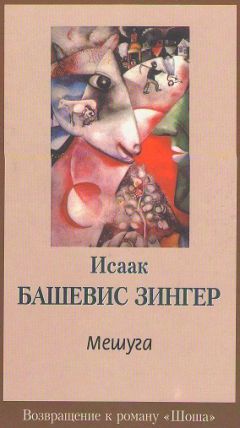Сколько раз Янек давал себе слово избегать евреев, забыть про них, однако судьба распорядилась иначе. Он влюбился в Машу — полюбил ее с первого взгляда. Его друг, скульптор Яша Млотек, лепил ее, и стоило Янеку ее увидеть, как он понял, что только о ней он и мечтал всю жизнь. Он обменялся с Машей двумя-тремя словами, и ему сразу же сделалось легко на душе. Ее портрет стал лучшей его картиной — это признавали все. Они любили друг друга в алькове, где имелась печь с кривыми трубами, в углу были свалены недописанные холсты, покрытые густой пылью рамы и стоял видавший виды диван со сломанными пружинами и торчащим из него конским волосом. В это самое время Млотек распевал в их общей мастерской еврейские песни, полные вздохов и стенаний, Хаим Зейденман, литовец, когда-то ходивший в ешиву, варил картошку в мундире и уплетал ее с селедкой, а Феликс Рубинлихт валялся на диване и читал журналы. В мастерской никогда не было ни пьянства, ни ссор. В том, как эти еврейские художники работали, как говорили об искусстве, как острили и даже отпускали неприличные шуточки, было что-то душевное, что-то, что невозможно передать словами. В еврейских девушках, которые приходили в мастерскую, тоже была какая-то странная смесь свободы и набожности. Маша рассказывала ему про своего деда, патриарха Мешулама Муската, про отца, про дядьев и про раввина из Бялодревны. Она ходила с ним по улицам и показывала пальцем на дома, где все они жили, — Натан, Нюня, Абрам. Когда же он напоминал ей, что из-за того, что он поляк, а она еврейка, их не ждет ничего хорошего, — Маша только легкомысленно отмахивалась, словно отгоняя все его страхи. «Все очень просто, — говорила она. — Либо я стану христианкой, либо ты евреем».
Да, какая-то таинственная сила влекла его к евреям. Его дети будут внуками Мойше-Габриэла и Леи, и кровь у них в жилах будет течь Мешулама Муската. Его словно бы тянуло в еврейские кварталы, он бродил по улицам и переулкам и с изумлением наблюдал за странными обычаями, причудливыми персонажами, непривычными сценами. Здесь всегда с жаром велись религиозные споры. Талмудисты с длинными пейсами все ночи напролет изучали Писание. Хасиды громогласно обсуждали своих ребе и их умение изгонять дибуков. Их цадики уходили в леса, чтобы говорить с Богом один на один. Святые люди с белыми бородами всю жизнь раздумывали над тайнами Кабалы. Удивительные молодые люди бросали свои семьи и отправлялись в Палестину орошать пустыни и осушать болота, которых веками не касалась рука человека. Юные девушки на чердаках изготовляли бомбы, предназначенные для царских чиновников. На свадьбах эти люди рыдали, словно на похоронах. Их книги читались справа налево. Варшавские улицы, где они жили, чем-то напоминали Багдад, перенесенный в западный мир. Янек мог часами слушать про этот народ, который прожил на польской земле восемьсот лет и так и не овладел польским языком. Откуда они взялись? Они были потомками древних иудеев? А может, хазар? Из-за чего они держатся вместе? Откуда у них эти черные, как смоль, либо огненно-рыжие волосы, эти дикие глаза, бледные, аристократические лица? Почему их так люто все ненавидят? Почему гонят из страны в страну? Что вынуждает их бежать в Англию, в Америку, в Аргентину, в Южную Африку, в Сибирь, в Австралию? Почему именно этот народ дал миру Моисея, Давида, пророков, Иисуса, апостолов, Спинозу, Карла Маркса? Янеку ужасно хотелось писать этих людей, выучить их язык, узнать их тайны, стать таким же, как они. Ему позировали девушки без гроша за душой, носильщики, уличные торговцы. Художники, делившие с ним мастерскую, только пожимали плечами и в разговоре с ним переходили на идиш.
— Ты спятил! — говорил ему Млотек. — Евреи у тебя похожи на турок.
— Сам не знаешь, чего тебе надо, — заявил ему Феликс Рубинлихт. — Ты самый настоящий гоишер коп.
В дни между Суккосом и Йом-Кипуром Копл, как обычно, прибыл в контору в одиннадцать утра. Дел было немного. Квартиросъемщики аренду не платили, однако кое-какой доход с лавок, пекарен, небольших фабрик в копилку Мускатов еще поступал. Те несколько сот рублей в месяц, которые собирались, Копл аккуратно делил между наследниками в соответствии с их нуждами. Больше всего получал Йоэл — он был тяжело болен. Меньше всего — Абрам. Закончив с делами семьи, Копл принялся подсчитывать собственные доходы, щелкая на счетах, выпуская из ноздрей клубы дыма и напевая популярную песенку:
О чем пою,
Узнаешь только ты.
Сидя за столом Мешулама Муската и подсчитывая банкноты, проценты, валюту, стоимость недвижимости, Копл вдруг услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Он обернулся. Дверь открылась, вошла Лея. Шел дождь, и в руках она держала зонтик с серебряной ручкой. На ней были каракулевое пальто и шляпка с пером. Давно уже Копл не видел, чтобы она была так нарядно одета. Он встал ей навстречу.
Лея улыбнулась:
— Доброе утро, Копл. Что это ты встал? Я ведь не ребе. И даже не жена ребе.
— Для меня ты важнее тысячи ребе вместе с их женами.
Лея вдруг сделалась серьезной.
— Я хочу, чтобы ты меня внимательно выслушал, Копл, — сказала она почти сердито. — Ты не передумал? Насчет меня?
— Насчет тебя? Ты сама прекрасно знаешь, что нет.
— И ты меня по-прежнему любишь?
— А ты как думала?
— В таком случае я хочу, чтобы ты знал: решение принято.
Копл побледнел.
— Рад слышать, — сказал он сдавленным голосом. Папироса повисла у него на губе.
Растерянность продолжалась недолго; Копл обошел письменный стол, помог Лее снять пальто и не забыл взять у нее из рук мокрый зонтик и поставить его в угол. На Лее было обтягивающее черное атласное платье (однажды Копл заметил, что это платье особенно его возбуждает), которое подчеркивало ее округлые бедра и высокую грудь. Когда она сняла перчатки, Копл обратил внимание, что обручальное кольцо у нее на пальце отсутствует.
— Все получается так, как ты задумал, Копл, — сказала Лея. — Ты — везучий человек. Почему ты не предлагаешь мне сесть?
— Пожалуйста, Лея. Здесь ты хозяйка.
— В самом деле? Та еще хозяйка! Послушай, Копл, мы уже не дети.
— Да.
— Поэтому, чтобы не наделать глупостей, необходимо все как следует взвесить. Я всю ночь не сомкнула глаз. Посмотри на меня. Я еще раз все продумала. С начала до конца. Мне терять нечего. Раз и навсегда должна я избавиться от своей дурацкой гордыни. Но если ты сожалеешь о своем предложении, Копл, я на тебя в обиде не буду. Бросить семью не так-то просто, я понимаю.
— Ни о чем я не сожалею. Сегодня — самый счастливый день в моей жизни.
— Почему ж ты тогда такой бледный? Ты похож на Йом-Кипур в предрассветный час.
— Нет, все в порядке.
— Перед Рош а-шона, — продолжала, помолчав, Лея, — он поехал в Бялодревну и взял с собой Аарона. Он и сейчас еще там. Этот болван вообразил, что я буду играть роль брошенной жены и с утра до ночи его оплакивать. Так вот, он ошибается. Я поеду в Бялодревну и потребую развод. Двадцати пяти лет мне хватило с лихвой.
— Я всегда знал, что в один прекрасный день ты образумишься.
— Откуда тебе знать? Пока был жив отец, я была готова терпеть все что угодно. Не хотела расстраивать старика. Я страдала и молчала. Лежала без сна и плакала в подушку, а Мойше-Габриэл в это время выпивал с хасидами. В Бялодревне ему было лучше, чем в собственном доме. А мне приходилось заниматься всем на свете — домом, хозяйством, детьми, думать, где достать денег, и все прочее. Он же только и делал, что меня пилил, ведь я не хотела, чтобы дети выросли такими же никчемными дураками, как их отец. Но теперь все, с меня хватит. Оставшиеся годы я хочу прожить как человек, а не как домашнее животное.
— Ты абсолютно права. На все сто процентов.
Копл решительно тряхнул головой и хотел затянуться торчавшей у него изо рта папиросой, но окурок давно погас. В поисках спичек он стал лихорадочно хлопать себя по карманам, шарить по столу и в ящиках стола. Счеты упали на пол, и деревянные кости долго еще, с глухим постукиванием, вращались на диске.
— Что ты ищешь? — воскликнула Лея.
— Ничего. Спички. Вот они.
— Что это ты так разнервничался? Двадцать восемь лет ты твердишь мне о своей великой любви. Еще вчера целую речь произнес. Если передумал, так и скажи — мы все равно останемся друзьями. Когда на такое решаешься, обманывать себя нельзя. Тут или все, или ничего.
— Не понимаю, Лея, зачем ты завела этот разговор.
— Сама не понимаю. Мне нужна определенность.
— Я готов и не отступлюсь. Дай мне только пару дней.
— Хоть пару недель. Спешки никакой нет. Я прошу только об одном. Постарайся не обделить жену. Оставь ей денег — на жизнь и на детей.
— Она никогда ни в чем нуждаться не будет.
— С чего ты взял, что она согласится на развод?