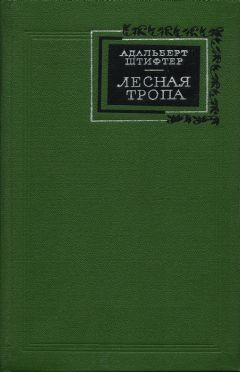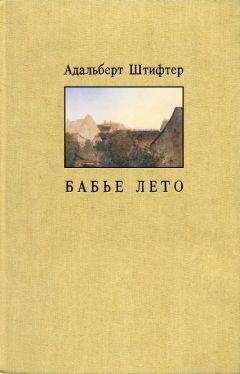Последние годы жизни Штифтера омрачены горестями и болезнью. Выступления критиков раздражают его своей нравственной и эстетической слепотой. Творческие огорчения усугубляются личными несчастьями. В 1859 году внезапно ушла из дому его приемная дочь Юлиана, а через некоторое время в Дунае выловили ее труп. Это неожиданное самоубийство потрясло Штифтера и до конца дней мучило его своей непостижимостью.
Он глубоко разочарован своей работой в школьном ведомстве и хочет выйти в отставку. Бюрократический аппарат Австрийской империи не стал после революции подвижнее и гибче, это была все та же громоздкая и ржавая машина, и многие начинания оказывались тщетными из-за чиновничьей косности («всюду наталкиваешься на дураков»). Вместе с тем служба отнимает много времени, мешает литературному труду. Штифтер сравнивает себя с астрономом Кеплером, тоже жителем Линца, который жаловался, что, отправляя чиновничью должность, не имеет возможности заниматься наукой.
В 1863 году Штифтер заболел. Воспаление печени на многие дни выводило его из строя, расстраивало нервы, требовало длительного пребывания на водах. В 1865 году друзья исхлопотали ему отставку с пенсионным содержанием. Тяжело подействовали на Штифтера события 1866 года — австро-прусская война, затеянная Бисмарком для возвеличения Пруссии и последующего объединения Германии «железом и кровью». Штифтера удручало но только поражение его родины в этой войне, но и верно понятые им хищнические устремления Германии, вступавшей в эру империализма и агрессивных войн.
Несмотря на свою болезнь, он продолжает упорно трудиться над «Записками моего прадеда», но чувствует, что ему уже не довести эту работу до конца. Врачи определяют у него рак печени. Истерзанный приступами невыносимых болей и страхом перед мучительной агонией, Адальберт Штифтер в ночь на 26 января 1868 года перерезал себе горло бритвой.
Трагическая кончина Штифтера дала повод некоторым его биографам и исследователям ретроспективно усматривать во всей его жизни и творчестве нечто болезненно-патологическое, интерес к стихийно-катастрофическим явлениям, предвосхищающий «экзистенциальный ужас» XX века.
С этим трудно согласиться. Творчество писателя далеко не всегда объясняется событиями его жизни. Самая высокая моральная стойкость не может служить преградой физическому разрушению. И не «стихийно-катастрофическое» начало утвердило славу Штифтера в XX веке, а те простые и безусловные человеческие ценности, которые он проповедовал всей системой своей этики и ее эстетическим воплощением. Его исторический оптимизм противостоит апокалипсическим представлениям о грядущей мировой катастрофе, которые порождены эпохой империализма с ее человеческими гекатомбами.
Поэтическое обаяние прозы Штифтера, утверждение им высокого гуманистического идеала, его незыблемая вера в созидательные, творческие возможности человека несомненно завоюют этому прославленному ныне автору признание советского читателя.
С. Шлапоберская
ЗАПИСКИ МОЕГО ПРАДЕДА
© Перевод Р. Гальпериной
Dulce est, inter majorum versari habitacula et veterum dicta factaque recensere memoria.
Egeslppus
Отрадно бродить по обители предков и вспоминать речения и дела живших в старину.
Гегезипп
Этой строкою блаженного Гегезиппа, ныне давно забытого латинского автора, хочу я ввести читателей в свою книгу, а самой книгою ввести их в мой старый, далекий родительский дом. Гегезиппово изречение когда-то помогло мне отличиться в школе и навсегда запало в память; но я и впоследствии не раз мысленно к нему обращался, бродя по старым покоям родительского дома, ибо дом этот изобиловал фамильными вещами, достоянием предков, и, бродя среди этих остатков прошлого, я и в самом деле испытывал ту неизъяснимую радость, то наслаждение, о каком говорит Гегезипп. Это наслаждение присуще не только отроку, я и посейчас окружаю себя всяческой стариною и питаю к ней слабость. Мало того, на пороге старости я с неким радостным чувством предвижу, как мой внук или правнук будет бродить по моим следам, которые я прокладываю с такой любовью, словно им век существовать, между тем как на самом деле, едва дойдя до внуков, они угаснут, отживут свой срок. Торопливое созидание старика, его упорная приверженность задуманному, жажда посмертной хвалы — все это не что иное, как смутные и бессильные порывания старого сердца продлить радость жизни еще и за гробом. Напрасные мечты, ибо как сам он в свое время посмеивался над безвкусным поблекшим наследием предков и менял все по своему усмотрению, так сделает и внук; он разве лишь помедлит на пороге и еще раз оглянется на эти памятки с тем сладостно-щемящим чувством, с каким мы провожаем каждый уходящий отрезок времени.
Эти-то чувства и навеяли мне мысль взять Гегезипповы слова эпиграфом к книге, посвященной памяти моего прадеда и его запискам.
О нем-то я и поведу свой рассказ.
Мой прадед был широко известен как знающий лекарь, искусный врачеватель, считали его также за чудака, а кое в чем чуть ли не за еретика. Всего этого он набрался в высшей школе в Праге, откуда, едва лишь обзаведясь докторской шляпой, вынужден был бежать стремглав, дабы поискать счастья в широком мире. О причине, вызвавшей столь скоропалительное бегство, он, по словам деда, предпочитал молчать. Но какова бы ни была эта причина, она привела его в родную глушь, в наш чудесный лесной край, где он вскорости стал пользовать всех больных на много миль окрест. Всего лишь несколько лет назад в нашей долине еще носились заглухающие толки о докторе, да я и сам мальчишкой встречал запозднившихся стариков, которые знавали моего прадеда и видели, как он разъезжает по округе на своих рослых вороных.
К глубокой старости он кое-что прикопил и, когда пришел его час последовать за иными своими пациентами, завещал эти сбережения вместе с домом и утварью единственному сыну. Деньги в прусскую войну пошли прахом, дом, однако, уцелел; о странностях и чудачествах доктора, который не укладывался в общий ранжир, много ходило толков еще и после смерти. Но, подобно глыбам льда, уносимым весенним паводком, чтобы превратиться в ледяную кашу и окончательно раствориться в воде, эти слухи таяли, пока наконец имя моего прадеда не затерялось в потоке преданий. Его домашняя утварь и памятные вещи тоже износились и поблекли. Об этих обломках старины мне и хочется рассказать, ибо в свое время они доставили немало радостных волнений.
Как ни странно, особенно мила мне в ту пору была всякая отслужившая ветошь, а не те вещи, которые привлекли бы мое внимание сейчас. В туманных далях младенчества видится мне черный камзол мудреного покроя, в ушах моих еще звучат восхищенные возгласы зрителей — такому-де левантину износу нет, не чета нынешним шелкам, — а также их советы и наставления насчет того, как беречь и чтить старину; завалялось среди детских игрушек обшмыганное темное перо с надломленным черешком, когда-то украшавшее чью-то шляпу; запомнилось мне облезлое дышло среди щепок, обломков и прочего мусора в дровянике.
В нашем саду по-прежнему неистребимо разрастался Дягилев корень; рядом высилась дряхлая черешня, две ее единственно уцелевшие ветви еще приносили летом черные кислые плоды, а осенью осыпались багряно-красными листьями; запомнились также два колеса цвета небесной лазури, от беспорядочно набросанных сверху плугов и борон они обросли вековой грязью, и я, мальчишкой, напрасно старался дочиста их отмыть. В сенях и в конюшне валялось много предметов неизвестного назначения — говорили, что доктор женился на благородной, возможно, эти вещи не имели к нему прямого отношения, но когда среди привычной домашней утвари попадалось что-нибудь чуднóе, что ставило в тупик нынешних обитателей дома, то всегда говорили: «Должно быть, это еще докторовы вещи», потому что хоть мы и высоко ставили нашего богатого предка, однако почитали его в душе за чудака.
В нашем доме в ту пору, должно быть, водилось еще много старины, но страх удерживал нас, детей, заглянуть в иной заповедный угол, где веками спасался всякий хлам. Так, в темную галерею между насыпным амбаром и крышей были составлены самые старые вещи, но уже с первых шагов ход туда преграждала позолоченная статуэтка святой Маргариты на массивном цоколе, и нас, детей, стоило нам туда заглянуть, отпугивало ее мерцание. Неисследованные области имелись и в недрах каретника, где стоймя торчали какие-то жерди, лохматились вязанки иссохшего сена, топорщились кучки знакомых перьев давно зарезанных кур; где колесные ступицы таращились черными, с блюдце, глазами, а рядом, в соломе, зияли провалы, черные, как докторская шляпа. Конюх как-то поведал нам, что, став на четвереньки, можно сквозь эту свалку пробраться в конюшню, к ларю с овсом, и этим нагнал на нас еще большего страха; мы восхищались такими подвигами, но сами не отваживались на них.