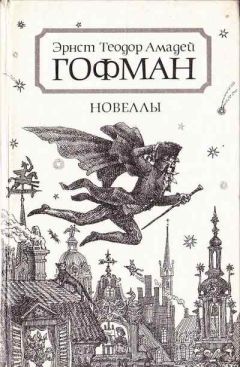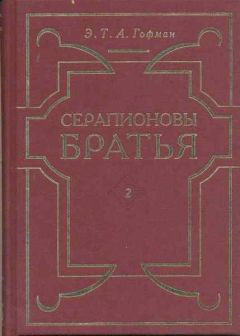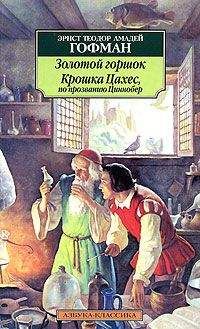— Поверь, — проговорил Антонио в смущении, — сердцем-то я чувствую, что ты не лжешь. Но скажи, кто был мой отец? Как его звали? Что за злая судьба погубила его в ту ужасную ночь? Кто тот человек, который взял меня на воспитание? И какое событие так потрясло меня, что до сих пор оно подобно могучим чарам чужого, незнакомого мира неодолимо владеет всем моим существом, заставляя мысли мои бурлить подобно морским волнам во мраке ночи. Вот что я хочу узнать, и если ты поведаешь мне об этом, раскроешь тайну, непостижимым, загадочным образом вошедшую в мою жизнь, — тогда я поверю тебе!
— Тонино, — со вздохом отвечала старуха, — ради твоего же блага я должна хранить тайну, но скоро, очень скоро придет время, и ты все узнаешь. — Помни: Фонтего, Фонтего — держись подальше от Фонтего!
— О боже! — в гневе воскликнул Антонио. — Твои темные речи тебе уже не помогут, тебе не соблазнить меня своими дьявольскими чарами. Душа моя истерзана, либо ты сейчас же мне все расскажешь, либо…
— Молчи, ни слова больше! — прервала его старуха. — Оставь угрозы — разве перед тобою не твоя верная няня, твоя кормилица?!
Не желая больше слушать старухины речи, Антонио вскочил и бросился прочь от старухи. Издалека он еще крикнул ей:
— А новый плащ ты получишь, и денег сколько пожелаешь — в придачу!
Поистине странное зрелище являл собою престарелый дож Марино Фальери рядом со своей юной супругой. Он, коренастый и еще довольно крепкий, но убеленный сединой, с бесчисленными морщинами на красноватом, загорелом лице, шествует под руку со своей юной супругой, стараясь держаться прямо, что стоило ему немалых усилий; она — сама грация, в чертах ее прекрасного лица запечатлелась кроткая ангельская доброта, неотразимое очарование таится в робком, исполенном смутной тревоги взоре, печать величия и достоинства лежит на открытом лилейно-белом лице, обрамленном темными локонами, нежная улыбка озаряет его, — смиренно склонив свою милую головку, идет она, легко неся свое стройное тело, и кажется, будто ноги ее вовсе не касаются земли, — чудесное видение, словно сошедшее с небес. Да что там говорить, вы ведь и сами видели не раз такие ангельские лица на полотнах старых мастеров, уж они-то умели воплотить их неземную прелесть и очарование.
Такова была Аннунциата. И конечно же не было ничего удивительного в том, что каждый, кто видел ее, испытывал удивление и восторг, и каждый пылкий юноша в синьории воспламенялся неукротимым чувством — смерив старца насмешливым взглядом, приносил он в своем сердце клятву — стать Марсом — победителем этого Вулкана[20]. Поэтому Аннунциата вскоре оказалась окружена толпою поклониников, чьи льстивые, исполненные соблазна речи она выслушивала кротко и приветливо, не придавая им особого значения. Ее ангельски невинная душа воспринимала союз с престарелым царственным супругом не иначе как обязанность чтить своего высокого господина и служить ему с беспрекословной преданностью верной служанки. Он был с нею приветлив и даже нежен, он прижимал ее к своей холодной, как лед, груди, называя ее своей милой, он осыпал ее всеми драгоценностями, какие только бывают на свете, — чего ей еще желать, чего требовать от него? При таком отношении к супружеству у нее не могло зародиться и мысли о неверности старику; все, что находилось вне узкого круга представлений об этом союзе, было для нее неведомой страной, запретные границы которой скрывались в туманном мраке, — кроткое дитя не видело ее и не подозревало о ней. Вот почему все притязания поклонников были бесплодны.
Но ни в одном из них прекрасная догаресса не пробудила столь неистового любовного жара, как в Микаэле Стено. Несмотря на молодость, он занимал важную высокую должность в Совете Сорока. Итак, он был знатен, да к тому же хорош собою, и это придавало ему уверенность в победе. Он не боялся старого Марино Фальери, ведь после женитьбы его и вправду, казалось, оставили припадки внезапного, клокочущего гнева и грубое, неукротимое буйство. Он сидел бок о бок с прекрасной Аннунциатой, в богатых одеждах, разряженный в пух и прах, сияя улыбкой, и ласковый взор его серых глаз, то и дело застилавшийся старческой слезой, как бы вопрошал собравшихся, может ли кто-нибудь еще похвастаться такой супругой. Властный, грубый тон, каким он обыкновенно разговаривал прежде, сменился воркующим лепетом; каждого старик именовал милейшим и удовлетворял самые невероятные прошения. Кто бы узнал сейчас в этом разнеженном влюбленном старике прежнего Фальери, который в день праздника тела Христова, вспылив, ударил по лицу самого епископа, — того Фальери, который победил отважного Морбассана. Это расслабленное состояние Фальери, которое день ото дня становилось все более явственным, воспламеняло Микаэле Стено к самым буйным выходкам. Аннунциата не понимала, чего, собственно, хочет от нее Микаэле, неотступно преследуя ее, то бросая на нее пылкие взоры, то донимая дерзкими речами. Однако ничто не могло поколебать ее спокойствия и приветливости, — но именно безнадежность, которую внушало ему это чистое существо, с неизменной доброжелательностью относившееся ко всем, приводила его в отчаяние. Тогда он решил заманить ее в ловушку. Ему удалось завести любовные шашни с самой преданной служанкой Аннунциаты; она довольно скоро сдалась и стала пускать его к себе ночью. Итак, он считал, что путь к неоскверненным доныне покоям Аннунциаты ему открыт, но силы небесные воспротивились этому и обратили вероломное коварство на голову бесстыдного злодея.
Случилось так, что однажды ночью дож, только что получивший дурные вести о неудаче, постигшей Николо Пизани в сражении с Дориа при Портелонго, лишившись сна, в сильной тревоге и волнении прогуливался по галереям дворца. Тут ему почудилась тень, которая, выскользнув из покоев Аннунциаты, пробиралась к лестнице. Он поспешил за ней — и обнаружил Микаэле Стено, — тот возвращался от своей возлюбленной. Ужасное подозрение пронзило душу Фальери, с диким криком: «Аннунциата!»— бросился он к Стено, выхватывая на ходу кинжал. Но Стено, который оказался гораздо более сильным и ловким, нежели Фальери, увернулся и подлым ударом кулака свалил его на пол, а затем, с громким хохотом, выкрикивая: «Аннунциата! Аннунциата!»— бросился вниз по лестнице. Старик с трудом поднялся и, раздираемый муками ада, стал ощупью пробираться в спальню Аннунциаты. Ни звука — тихо, как в могиле. Он постучался, незнакомая служанка — не та, которая обычно спала в покоях Аннунциаты, отворила ему.
— Что угодно моему любезному супругу в столь необычно поздний час? — спокойным ангельским голосом проговорила, выходя, Аннунциата, успевшая тем временем набросить легкое ночное платье. Старик вперил в нее свой взор и, воздев к небу руки, воскликнул:
— Нет, не может быть, не может быть!
— Чего не может быть, мой вельможный господин? — спросила Аннунциата, вконец обескураженная его странно торжественным тоном.
Но Фальери, оставив ее слова без ответа, обратился к служанке:
— Почему ты здесь? Где Луиджа?
— Ах, — отвечала бедняжка, — Луиджа уговорила меня поменяться с ней на эту ночь, она ночует сегодня в первой комнате, той, что прямо у лестницы.
— Ты говоришь — у лестницы? — обрадованно воскликнул Фальери и быстрым шагом поспешил туда.
Луиджа, в одной рубашке, услышав громкий стук, отперла дверь и, едва увидев раскрасневшееся от гнева лицо и сверкающие глаза своего господина, упала на колени и поведала о своем позоре, красноречивым свидетельством коего была и пара изящных мужских перчаток, забытых на мягком сиденье кресла; запах амбры, исходящий от них, выдавал щегольские замашки их владельца. До крайности возмущенный неслыханной дерзостью Стено, дож отправил ему на следующее утро суровое предписание, согласно которому ему запрещалось под страхом изгнания из города появляться вблизи герцогского дворца и в его окрестностях и показываться на глаза дожу и его супруге. Микаэле Стено пришел в неописуемую ярость, оттого что провалился его блестящир! замысел и позорное изгнание лишит его возможности находиться подле своего кумира. Обреченный теперь лишь издали наблюдать, как неизменно приветливо и кротко беседует Аннунциата с другими юношами синьории, снедаемый завистью и неистовой страстью, Стено додумался до злобного измышления, будто супруга дожа отвергает его лишь потому, что его опередили другие более удачливые счастливцы, и у него хватило наглости говорить об этом на всех углах. Может статься, старый Фальери прослышал об этих бесстыдных наветах, или же события той ночи показались ему предостережением судьбы, а может быть, при всей вере в благочестие жены, ему ясно представилось, сколь неестественен их союз, — так или иначе, он сделался мрачен и угрюм, дьявольская ревность невыносимо терзала его, он велел запереть Аннунциату во внутренних покоях герцогского дворца, и ни одна душа больше не могла ее увидеть.