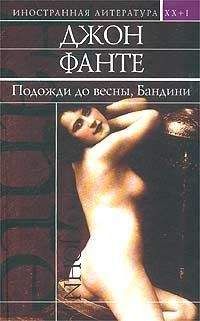– Артуро Бандини!
А веснушек у меня тоже тогда уже не будет, Роза. Они исчезнут – они обычно пропадают, когда вырастаешь взрослым.
– Артуро Бандини!
И имя я себе изменю, Роза. Меня будут звать Баннинг, Бамбино Баннинг; Арт, Блистательный Бандит…
– Артуро Бандини!
На этот раз он услышал. Рев толпы на Матче за Мировое Первенство затих. Он поднял глаза и увидел, как сестра Селия высится над его партой, ее кулак колотит по ней, а левый глаз дергается. Они смотрели на него, все – даже его Роза над ним смеялась, и желудок выкатился из-под него, поскольку он понял, что шептал свои фантазии вслух. Остальные могли ржать, сколько им вздумается, но Роза – ах, Роза, смех ее жалил больнее всех, и он чувствовал, как ему больно от этого, и ненавидел ее: эту девку макаронника, эту дочь шахтера-вопса из трущоб Луисвилля: проклятый паршивый шахтер. Сальваторе его звали; Сальваторе Пинелли, так низко он пал, что корячился в шахте. Мог ли он построить такую стену, что простояла бы сто, двести лет? Не-а – тупой даго, одно кайло да лампа на каске, должен залазить под землю и зарабатывать на жизнь, будто какая-нибудь паршивая макаронная крыса. А его звали Артуро Бандини, и если бы в этой школе нашелся тот, кто против этого что-нибудь имеет, то пусть встанет и скажет – живо шнобель сворочу.
– Артуро Бандини!
– Ну чё? – протянул он. – Чё, сестра Селия? Я вас слышал. – И только потом поднялся. Класс наблюдал. Роза прошептала что-то соседке сзади, прыснув в ладошку. Он заметил этот жест и уже был готов заорать на нее: наверное, хихикнула насчет его веснушек, или насчет здоровенной заплаты на колене, или что ему нужно подстричься, или про обрезанную и перешитую рубашку, которую когда-то носил отец, а теперь она сидит на нем косо.
– Бандини, – произнесла сестра Селия. – Ты, вне всякого сомнения, – слабоумный кретин. Я предупреждала тебя, чтобы ты был внимателен на уроках. Такую глупость необходимо вознаградить. Останешься после занятий до шести часов.
Он сел, и тут из коридоров истерически донесся трехчасовой звонок.
* * *
Он сидел один, сестра Селия за столом проверяла тетради. Она работала, не обращая на него внимания, левое веко раздраженно подергивалось. На юго-западе появилось бледное тошнотное солнце, тем зимним днем больше похожее на утомленную луну. Он сидел, опершись подбородком на руку, и наблюдал за холодным солнцем. За окнами цепочка елей казалась еще холоднее под своей печальной белой ношей. Он услышал, как где-то на улице закричал мальчишка, забренчали цепи на шинах. Ненавидел он зиму. Он мог представить себе бейсбольное поле за школой, похороненное под снегом, на вал за основной базой нагромоздилась фантастическая тяжесть – и все поле такое одинокое, такое грустное. Что делать зимой? Он был почти доволен, что сидит тут, и наказание забавляло его. В конце концов, здесь сидеть так же неплохо, как и где-нибудь еще.
– Хотите, я что-нибудь сделаю, сестра? – спросил он.
Не отрываясь от работы, она ответила:
– Я хочу, чтобы ты сидел тихо и помалкивал – если это возможно.
Он улыбнулся и протянул:
– Лады, сестра.
Он оставался тих и помалкивал все десять минут.
– Сестра, – сказал он, – а хотите, я доски вымою?
– Мы за это платим специальному человеку, – ответила она. – Или, точнее, должна признаться, переплачиваем.
– Сестра, – сказал он, – а вам бейсбол нравится?
– Моя игра – футбол, – ответила сестра. – Бейсбол я терпеть не могу. Мне от него скучно.
– Это потому, что вы не улавливаете тонкой стороны игры.
– Тихо, Бандини, – сказала она. – Будь так добр.
Он поменял позу, оперся подбородком на руки и стал пристально за ней наблюдать. Левое веко дергалось беспрерывно. Интересно, как она заработала себе стеклянный глаз? Он всегда подозревал, что кто-то заехал ей в глаз бейсбольным мячом; теперь же он был почти в этом уверен. Она приехала в школу Св. Катерины из Форт-Доджа, Айова. Интересно, как играют в бейсбол в Айове и много ли там итальянцев?
– Как твоя мать? – спросила она.
– Почем я знаю? Шикарно, должно быть.
Она подняла голову от тетрадок и впервые на него взглянула:
– Что ты хочешь сказать – должно быть? Ты что, не знаешь? Твоя мать – милейший человек, прекрасный человек. У нее душа ангела.
Насколько ему известно, они с братьями – единственные бесплатные ученики в этой католической школе. Обучение стоило всего два доллара в месяц на каждого ребенка, но это означало шесть долларов в месяц на всех, и деньги никогда не выплачивались. Такое отличие от остальных терзало его: другие платят, а он нет. Время от времени мать засовывала доллар или два в конверт и просила Артуро отнести их сестре-настоятельнице, на счет. Этого он еще больше терпеть не мог. Всегда яростно отказывался. Август между тем не возражал и всегда доставлял редкие конвертики; на самом деле он даже с нетерпением ждал такой возможности. За это он Августа ненавидел – что подчеркивает их бедность, что готов напомнить монахиням: Бандини – люди бедные. Все равно он никогда не хотел в сестринскую школу. Единственное, что его с ней примиряло, – бейсбол. Когда сестра Селия сказала, что у его матери – прекрасная душа, он понял: она имела в виду, что та храбра, чтобы жертвовать и отказывать себе ради этих маленьких конвертиков. Он же не видел в этом никакой храбрости. Ужасно, ненавистно – это отличало его и братьев от остальных. Почему, он точно не знал, но ощущение оставалось: в его глазах они действительно отличались от других. Это как-то совпадало со всем прочим: с веснушками, с нестрижеными патлами, с заплатой на колене и с тем, что он итальянец.
– Твой отец ходит к Мессе по воскресеньям, Артуро?
– Еще бы, – ответил он.
Слова застряли у него в горле. Зачем понадобилось врать? Его отец ходил к Мессе только утром на Рождество да иногда в воскресенье на Пасху. Ври, не ври, но ему нравилось, что отец презирает Мессу. Он не знал почему, но нравилось. Он вспомнил отцовский довод. Свево как-то сказал: если Бог – во всем, зачем я должен ходить в церковь по воскресеньям? Почему я не могу сходить в Имперскую Бильярдную? Разве Бога там нет? Его мать всегда содрогалась в ужасе от такой теологии, а он помнил, насколько жалок был ее ответ – тот же самый, что он выучил по Катехизису много лет назад. Это наша христианская обязанность, говорилось в Катехизисе. Что же касается его самого, то иногда он к Мессе ходил, а иногда нет. Когда он сачковал, на него наваливался сильный страх, он мучился и боялся, пока не скидывал грех с души на Исповеди.
В половине пятого сестра Селия закончила проверять тетради. Он устало сидел за партой, изможденный и изметеленный собственным нетерпением что-нибудь сделать – что угодно. В комнате почти стемнело. Луна, спотыкаясь, вывалилась из унылого неба на востоке – она бы стала белой луной, если б вырвалась на свободу. Комната в полумраке нагоняла на него тоску. В такую комнату лишь монахиням и входить в тихих толстых башмаках. Пустые парты грустно рассказывали об ушедших детях, а его собственная, казалось, им сочувствовала и с интимной теплотой советовала ему: иди домой, я тут побуду одна с остальными. Поцарапанная и разрисованная его инициалами, вымазанная и заляпанная чернилами, парта устала от него так же, как и он от нее. Теперь они чуть ли не ненавидели друг друга, однако переносили соседство очень терпеливо.
Сестра Селия встала, собирая тетради.
– В пять можешь идти, – сказала она. – Но при одном условии…
Летаргия его поглотила всякое любопытство, что же это еще за условие. Растянувшись на лавке, оплетя ногами парту перед собой, он лишь мог тушиться в собственном отвращении.
– Я хочу, чтобы ты ушел отсюда в пять часов, сходил в церковь и попросил Деву Марию благословить твою мать и дать ей все счастье, которого она заслуживает… бедняжка.
С этим она вышла. Бедняжка. Его мать – и бедняжка. Слова ее отозвались в нем таким отчаяньем, что выступили слезы. Везде одно и то же, всегда его мать – бедняжка, вечно бедненькая, всегда, это слово постоянно в нем и вокруг него, и внезапно он не выдержал в этой темной комнате и заплакал, всхлипами выдавливая из себя это слово, плакал и давился, не из-за этого, не по ней, не по матери, а по Свево Бандини, по отцу, по этому взгляду своего отца, по его корявым рукам, по его инструментам каменщика, по стенам, которые строил его отец, по ступеням, карнизам, зольникам и соборам, все они так прекрасны, поэтому своему чувству, когда отец пел об Италии, об итальянском небе, о Неаполитанском заливе.
Без четверти пять его страдания исчерпали себя. Почти весь класс погрузился в темноту. Он вытер нос рукавом и почувствовал, как в сердце его поднимается удовлетворение, хорошее ощущение, покой, сведший на нет последние четверть часа. Ему хотелось зажечь свет, но на другой стороне пустыря стоял дом Розы, и школьные окна были видны с ее заднего крыльца. Она может заметить, что горит свет, а это напомнит ей, что он до сих пор сидит в школе.