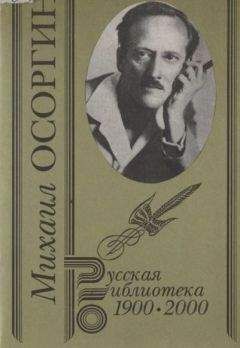Декабря 29 числа 1721 года из архиерейского разряда писано в Синод, что во исполнение приказа — оной дьячок Василий в Новегороде сожжен.
* * *
Но столь велик был дьячков грех, что и сожегши дьячка, — сразу и до конца того дьячка не дожгли, и вышло отсюда новое хлопотное дело, и новая переписка, и новые допросы и сыски.
Жгли дьячка на костре, на еловых дровах, в руку вложив лживую его грамоту о небывшем чуде. Был дьячок худ и изнеможен, горел плохо и невеселым огнем, так что все дрова сгорели, а от жареного дьячка оставалось еще немало, как о том описано в протоколе:
«Голова с шеею остались токмо одне кости и часть груди и рук с перстами и с телом, а в левой руки зажатого о оном ложном чуде списка его дьячковой копии часть, которой и вынять за крепким от онаго жару тоя руки сцеплением невозможно, также и прочих костей не малое число, которых подробну за горением по большей части росписать невозможно».
Прежде всего, хоть о том в протоколе и не помечено, завилась кольцом и сгорела дьячкова косичка, к концу завязанная тонким вервием, дабы зря на ветру не расплеталась. За косичкой запылали дьячковы сальные лохмотья, а как сжигаемый дьячок не был на костре спокоен, то полопались путы на руках и ногах, на лице же дьячковом, когда лизнул его первый огонь, замечено было народом как бы большое удивление, после чего перестал дьячок жаловаться и кричать.
И было допущено, что стоявший при том сожжении на карауле урядник с солдатами, по согласию ректмейстера, собрал жареные останки того дьячка, уложил их в гроб и доставил в дом к дьячковой жене. Для чего той жене понадобились несгоревшие части преступного мужа, о том судить трудно, однако в народе, падком до соблазна, пошел разговор и дошел до начальства.
С царским приказом не шутят, и начальство взволновалось. А так как о том, что делать дальше с недосожженным дьячком, ясного распоряжения не было, то новгородский провинциал-инквизитор извлек названный гроб из дома дьячихи и приказал поставить в церковном притворе до определительного по тому делу святейшего синода указа.
Сожгли дьячка в декабре, указ же был получен в мае месяце следующего года, так что дьячок, хотя и жареный, лежа в гробу в церковном притворе, начал к весне сильно попахивать, наполняя самую церковь уже не прежним благовонием.
Новый же приказ Синода был таков:
«Тот запечатанный гроб с теми оставшимися частьми сжечь на том же месте, на котором дьячку та казнь учинена была, а при том сжении приставить караул и смотреть того накрепко, дабы тот гроб с теми оставшимися частьми сгорел весь в пепел».
Приказано было также произвести сыск и допросить в юстиц-коллегии ректмейстера Глебова, урядника Тимофеева и солдат, для чего собирали они кости и отдали дьячковой жене, а если они покажут на других, то и тех сыскать с пристрастием и всех держать под караулом, пока все дело не обнаружится и, в ответ на посланные дознания, не получится окончательное по тому делу решение.
Что было дальше — не знаем, и все дальнейшее уже мало касалось дьячка Василия Ефимова, обращенного на этот раз в совершенный пепел.
Писан настоящий рассказ по синодским документам подлинности бесспорной, а чего в документах не было, те пропуски добавлены сочинителем, ответственным во всей полной мере.
Серпуховский житель Гостиной сотни Афанасий Львов сын Шапошников принадлежал к разряду людей по преимуществу общительных. По-итальянски таких людей называют «франкоболло» (почтовая марка), а по-русски еще выразительнее: «банный лист». Человек наслаждается в бане, хлещет себя распаренным березовым веничком, окатывается водой, стоит чист, как новорожденный, и только один березовый листочек никак не смывается — прилип и ни с места; а сгонишь его с плеча — он прилепится где-нибудь на ноге и норовит присохнуть, да так и остаться. Вот такие бывают и люди, не озорные, не нахальные, вполне добропорядочные, но до невозможности прилипчивые; ходит вокруг вас, особенно разговорами не преследует, а смотрит, слушает, интересуется, как вы глотаете кусок, как чихнули, что сказали, кому улыбнулись, и все это бескорыстно, лишь по общительности и с целью изучения. И куда бы вы ни двинулись, — он за вами, предварительно спросив: «Я вам не мешаю?» — «Да нет, пожалуйста!» И уже в дальнейшем никак от него не отделаться, особенно если вам необходимо остаться одному или переговорить с кем-нибудь другим по душам. Если же грубо сказать ему: «Да, мешаете!» — то он нисколько не обидится, отойдет и будет смотреть издали вежливо и внимательно, пока не явится у вас желание разбить ему череп или улететь от него в стратосферу.
Афанасий Львов сын Шапошников приехал из Серпухова в Москву продавать пеньку майя 20 числа 1724 года и жил на Мясницкой улице у Ивана Выписляева в доме Гостиной сотни. Пеньку продал, мог бы и поехать домой, но задержался по случаю предстоящего дня рождения государя Петра Алексеевича. 30 майя его величество высокою своей особой изволил быть в селе Преображенском в церкви Преображения Господня у обедни, куда отправился и Шапошников посмотреть на царя.
По преданности своей государю и по привычке делать известным людям приятности, Афанасий Львович догадался, идя в Преображенское, захватить три серпуховских калачика, домашнего приготовления, малость подсохшие, но высокого качества и преотличного вида, тем более что они были перевязаны каждый ленточкой особого цвета: один — белой, другой — зеленой, третий — красной. В Серпухове на базаре такие калачи продавались по цене высокой: 2 копейки штука.
Когда обедня кончилась и царь направился к выходу, Афанасий Львович сын Шапошников подошел к нему в притворе церкви, низко, но без подхалимства поклонился, поздравил и поднес царю три калачика. Его величество не то чтобы удивился, — он никогда и ничему не удивлялся, кроме заморских художеств, — а пожелал узнать, кто такой жалует его калачами:
— Ты какой человек?
— Я Афанасий, раб Бога Вышнего.
— Чего за раб Бога Вышнего?
— Все мы рабы Бога Вышнего.
Великий Петр посмотрел на него со вниманием, калачи принял, ничего больше не сказал. За Петром шла толпа его приближенных, и к той толпе пристал Афанасий. Однако, не желая по смиренности своей докучать царю зря, выдвинулся вперед, подошел к царю сбоку и спросил, как государь прикажет, идти ли ему, Афанасию, домой, или государь укажет ему следовать с ним далее. Петр кивнул головой, дескать — иди с нами, раб Бога Вышнего.
Из Преображенского села великий государь проследовал в свой лефортовский новопостроенный дом, бывший прежде головинским, а теперь приспособленный для приятного царского проживания. За государем пошли туда Василий Поспелов, его приближенный человек, да Михаил Ширяев, постоянно при нем состоявший, да еще человек пять, а с ними и Афанасий Львов сын Шапошников, который нисколько в таком избранном обществе не потерялся, а шел достойно и со всеми наравне. Прибыв в Лефортово, государь изволил уйти в спальню к ее величеству государыне императрице, а свите велел подождать. Потом государь к ним вернулся. И все пошли с ним в галерею, сделанную на островке, в каковой галерее в те поры государь изволил кушать. Чтобы не быть назойливым, Афанасий Шапошников смирненько и достойно подошел к государю и спросил, должен ли он, Афанасий, в ту галерею идти наряду с другими. Великий государь поглядел на Афанасия с прежним любопытством и приказал ему идти вместе со всеми.
Тут начался государев обед, и за одним столом с ним обедали генерал-прокурор Ягужинский[26], благородные господа Нарышкины, бригадир Румянцев, Михаил Ширяев, певчий Иван Михайлов и другие разные люди, человек двадцать, а с ними и серпуховской Гостиной сотни человек Афанасий Шапошников, не уронивший себя ни обычаями, ни особым к вину прилежанием, ни глупым словом. Держался просто и достойно, кушал умеренно, слушал внимательно и ждал сам, если доведется, вставить слово в общий разговор. Государь был прост, обходителен и ко всем равен, в пище охотлив, в питии малость неумерен и неизменно весел. Взором орлиным оглядывал всех, примечал и Афанасия, поднесшего ему калачики. Когда же, утерев губы рукавом, государь изволил принимать прошек табаку, поднеся его к носу, то Афанасий счел подходящим к случаю громко сказать государю:
— От сего употребления табаку есть ли какая польза?
Его величество поднял брови и спросил Афанасия:
— А ты напред сего табак нюхивал ли?
— Табак я нюхивал, но никакой в том пользы не нашел, кроме греха.
И как о табаке стали говорить и другие, с которыми Афанасий дельно и вежливо поспорил, то внезапно его величество изволил рассмеяться и кивнул на Афанасия:
— Не рыть бы тебе, раб Бога Вышнего, у меня каменья!
Сказано это было шуточно и без подлинной угрозы, только потому, что его величество недолюбливал рассуждений о табаке, о немецком платье и о бородах, будучи очень чуток до раскольничьих розысков и подметных писем, осуждавших его за новшества.