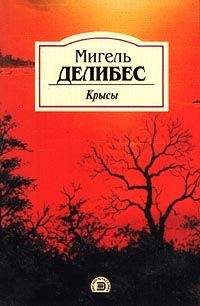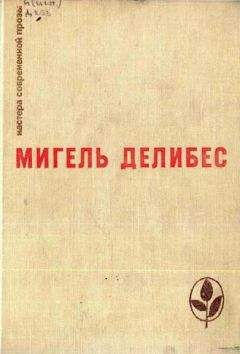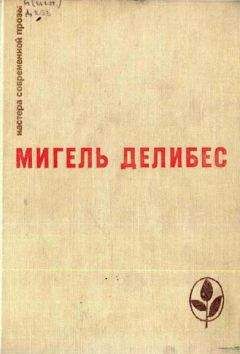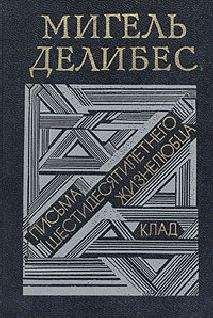Антолиано открыл дверь свинарника и, только боров высунул голову, схватил его своей железной рукой за ухо и повалил на бок с помощью Дурьвино, Прудена и Хосе Луиса. Ребятишки, видя, что кабан лежит, — а визжал он, как прóклятый, и при каждом взвизге из пасти вылетало облачко пара, — расхрабрились и начали дергать его за хвост и пинать в брюхо. Затем шестеро мужчин уложили борова на скамью, Нини послушал его сердце, начертил кусочком мела на этом месте крест и, когда дядюшка Крысолов нанес удар ножом так же уверенно, как вбивал прут в нору, мальчик повернулся спиной и стал считать, сколько раз боров хрюкнет. Раз, два, три — тут Пруден крикнул:
— Готов!
Тогда Нини обернулся, подошел к борову и ловко засунул в кровоточащую дыру капустный лист, чтобы остановить кровь, а затем раскрыл пасть и положил в нее камень.
Мужчины стояли вокруг Нини и смотрели, а женщины, чуть подальше, шептались. Слышался приглушенный голос Сабины:
— Ну и чертенок! Когда он вот так стоит среди взрослых, — точнехонько Иисус среди книжников.
Нини старался не вспоминать о бабушке Илуминаде, чтобы не сделать ошибки. Он ловко обложил тушу ржаной соломой и поджег ее; потом взял горящий пучок и принялся тщательно смолить впадины между брюхом и ногами, копыта, уши. Неприятно запахло паленой шерстью, а когда он закончил, Мамертито, сынок Прудена, и племянники сеньоры Кло содрали шкуру с ножек и обгрызли бабки.
Наступила решающая минута, и не потому, что вспороть брюхо такое уж трудное дело, а потому, что при этом не избежать было упоминаний о бабушке Илуминаде. Рука Нини с ножом чуть дрогнула, когда за его спиной Дурьвино крикнул:
— Гляди, Нини, бабка твоя никогда промашки не давала!
Мальчик мысленно наметил линию, равно удаленную от сосков, и, не колеблясь, сделал разрез от шеи до заднего прохода. Когда он одним взмахом ножа осторожно рассек брюшину, вокруг раздался гул восхищения. От внутренностей шел резкий, тошнотворный запах; Нини вытащил кишки, разложил на несколько кучек и в заключение засунул в брюхо две палки-распорки. Затем Антолиано и Дурьвино помогли ему повесить тушу головой вниз. Из пасти текла тоненькая струйка крови, на заиндевевших камнях двора образовалась красноватая лужица.
Сеньора Кло подошла к Нини, который мыл руки в лохани, и ласково сказала:
— Ты, сынок, работаешь еще быстрей и аккуратней, чем твоя бабка.
Ннни обтер руки о штаны.
— Когда будете разделывать, мне приходить, сеньора Кло? — спросил он.
Она взяла по тазу в каждую руку и сказала:
— Нет, не надо, с этим я сама справлюсь.
И, идя в дом, куда уже вошли все, она с порога, повернув голову, окликнула:
— Зайди, Нини, поешь вместе с мужчинами!
Гости на кухне громко разговаривали и беспричинно смеялись, только дядюшка Крысолов тупо смотрел то на одного, то на другого, не понимая их речей. Носы и уши у всех уже были ярко-красного цвета, но мех с вином и поднос с едой все ходили по кругу. Внезапно Пруден, ни к селу ни к городу, а может, просто потому, что в декабре, на святого Дамаса, шел дождь, а теперь светило солнце, — расхохотался и, обернувшись к Нини, уставился на него, словно желая заразить своим весельем.
— Ты что, не умеешь смеяться, Нини? — спросил он.
— Почему же? Умею.
— Тогда почему не смеешься? Ну-ка, засмейся разок, черт побери!
Мальчик смотрел на него пристально и спокойно.
— В честь какого святого? — спросил он.
Пруден опять захохотал, теперь уж нарочито. Затем поглядел на одного, на другого, будто ища поддержки, но все избегали его взгляда, и он, опустив глаза, глухо проговорил:
— Почем я знаю, в честь какого святого! Посмеяться, думаю, каждый может и без повода.
Нини как раз часто смеялся, но никогда не хохотал без причины, по-глупому, как взрослые, когда кололи кабанов, или когда напивались в кабачке Дурьвино, или когда начинал идти дождь, которого страстно ждали целые месяцы. И смеялся не так, как Матиас Селемин, Браконьер, у которого всякий раз, когда он заговаривал с Нини, грубая, как у слона, кожа собиралась тысячью морщин и устрашающе обнажались хищные зубы.
Нини решительно не любил Браконьера. Мальчик ненавидел смерть, особенно же наглое и коварное убийство, а Браконьер хвалился, что он в этом деле чемпион. По правде сказать, Матиаса Селемина вынуждали обстоятельства. Если у него и прежде были инстинкты хищника, он умело их скрывал вплоть до конца войны. Но война многим людям поломала судьбу и у многих притупила чувствительность, и для многих определила жизненный путь, в том числе для Матиаса Селемина, Браконьера.
До воины Матиас Селемин выезжал на аукционы в соседние города и преспокойно выкладывал за какую-нибудь пихтовую рощу пять-шесть тысяч реалов. Браконьер знал наперед, что не обмишулится, — до пяти тысяч реалов он отлично считал в уме, мог и приплюсовать и вычесть из них плату лесорубам и прикинуть, получит ли на вложенный капитал какую-нибудь прибыль. Но разразилась война, и пошел счет на песеты, и на аукционах поднимали цену до двадцати и даже тридцати тысяч, а эти числа уже были ему не по силам — их ведь надо было еще умножать на четыре, чтобы перевести в реалы, денежную единицу, с которой он привык иметь дело; на торгах голову его словно заполнял туман, и он не решался подать голос. Тут нашло на него уныние, растерянность. Ну что было ему с того, если люди говорили: «Матиас, жизнь-то подорожала в десять раз?» Там, где речь шла о суммах больше, чем пять тысяч реалов, Браконьер глядел олух олухом, и вот тогда-то он сказал себе: «Тебе, Матиас, дают за одну куропатку сто реалов чистоганом, за одну лисицу — четыреста, а уж за барсука и говорить нечего». И вдруг он почувствовал, что способен мыслить так же бесхитростно или, напротив, хитро, как лисы и барсуки, и даже перехитрить их. Также почувствовал он себя способным высчитать стоимость заряда, если сам изготовит порох из хлората и сахара и наполнит патрон шляпками гвоздей. С этого дня взгляд у него стал острей, кожа начала грубеть, и, когда в деревне кто-нибудь его поминал, люди говорили: «О, этот тип!» А донья Ресу, Одиннадцатая Заповедь, была еще беспощадней и говорила, что он бродяга и злодей, пропащий человек, как те, что живут в землянках, и как эстремадурцы.
Матиас Селемин, Браконьер, ночью бодрствовал, а днем спал. Рассвет заставал его обычно на нагорье или на холмах — к этому часу он успевал поставить с полдюжины петель на зайцев, которые возвращались с полей, капкан для лисицы и сколько-то вентелей и силков в местах, где водятся куропатки. Иногда он присаживался на повозку Симеоны или на «фордзон» Богача, чтобы подъехать поближе к стае дроф и укокошить парочку просто так. Браконьер не признавал никаких запретов и правил — выходил в поле весною и летом, с ружьем за спиной, как ни в чем не бывало, и если случайно встречался с Фрутосом, Присяжным, говорил: «Иду, знаешь, поохотиться на мелкого зверя». И Фрутос, Присяжный, только говорил: «Ну, ну» — и подмигивал. Фрутос, Присяжный, считал, что жара вредна — солнце, мол, выедает здоровье человека точно так, как краски на платьях девушек, поэтому он часами просиживал в кабачке Дурьвино и резался в домино.
Хитер был Браконьер, но частенько и он становился в тупик и тогда обращался за помощью к Нини.
— Нини, бездельник, где тут прячется барсук? Если верно покажешь, дам тебе дуро.
Или:
— Нини, бездельник, уже целую неделю выслеживаю лиса и никак не накрою. Не видал его?
Мальчик, ничего не говоря, пожимал плечами. Тогда Браконьер грубо тряс его, чертыхался:
— Черт, а не мальчишка! Неужто тебя никто не научил смеяться?
Нет, Нини смеяться умел, но смеялся обычно наедине с собой, тихонько и не зря, а по какому-то поводу. Когда наступала пора течки, мальчик часто еще затемно подымался в лес, и на заре, когда утренний ветерок расчесывал зеленую, недавно прополотую пшеницу, Нини подражал заячьему визгу, и дикие эти зверьки сбегались на его зов, меж тем как Браконьер, притаясь на другой стороне лощины, ругался, что сидит напрасно. Нини тогда злорадно смеялся и, если, возвращаясь, встречал Браконьера, смеялся про себя еще пуще.
— Откуда идешь, бездельник? — с досадой спрашивал Матиас.
— А я рыжики собирал. Подстрелил что-нибудь?
— Ничего. Какой-то треклятый заяц кричал все время в лощине, они к нему и посбегались.
Вдруг Браконьер подозрительно взглядывал на него.
— А ты случаем не умеешь кричать по-заячьи? Правда, не умеешь, Нини?
— Я-то? Нет. Почему спрашиваешь?
— Просто так.
Если же Браконьер выходил на охоту со своей борзой Митой, Нини прятался на пути к заячьему логову и, когда собака, часто дыша, гналась за зайцем, из своего укрытия грозил ей палкой; трусливая, как все борзые, Мита прекращала погоню и поворачивала назад. В таких случаях Нини, малыш, тоже смеялся про себя.