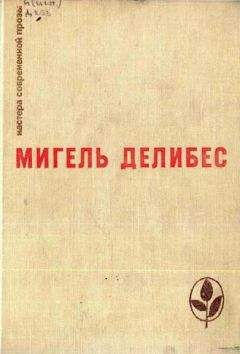Однажды вечером Перечница-младшая вернулась ликующая со своей обычной прогулки.
— Послушай, сестра, — сказала она. — Не знаю, почему ты невзлюбила Димаса. Это самый лучший человек, какого я знаю. Сегодня я заговорила с ним о наших деньгах, и он сразу подал мне несколько мыслей насчет их прибыльного помещения. Я сказала ему, что мы их держим в одном банке в городе и что мы с тобой обсудим это дело и решим, как поступить.
Перечница-старшая так и взвыла.
— А ты сказала ему, что речь идет всего лишь о тысяче дуро?
Перечница-младшая улыбнулась: сестра недооценивала ее осмотрительность.
— Конечно, нет, — ответила она. — О сумме я ничего не сказала.
Лола, Перечница-старшая, пожала плечами — мол, пойди потолкуй с ней. Потом крикливо засыпала словами — казалось, они не вылетают изо рта, а скатываются, как на салазках, с ее острого носа.
— Знаешь, что я тебе скажу? Этот человек — мошенник, который просто морочит тебя. Неужели ты не видишь, что все селение точит лясы по этому поводу и смеется над твоей глупостью? Наверное, ты единственная, кто этого не знает, сестра. — Она внезапно смягчила тон, — Тебе тридцать шесть лет, Ирена, ты этому парню в матери годишься. Подумай об этом хорошенько.
Ирена, Перечница-младшая, вскипела:
— Да будет тебе известно, Лола, мне больно выслушивать все это. Мне противны твои злобные намеки. По-моему, в том, что сходятся мужчина и женщина, нет ничего особенного, И не имеет никакого значения, если между ними разница в несколько лет. Просто-напросто все женщины в селении, начиная с тебя, завидуют мне. Вот это верно!
Перечницы разошлись, задрав нос. А на следующий вечер Куко, станционный смотритель, объявил в селении, что донья Ирена, Перечница-младшая, и дон Димас, банковский служащий, сели на товарно-пассажирский поезд и уехали в город. Когда Перечница-старшая узнала об этом, ей кровь бросилась в голову и у нее помутился разум. Она упала в обморок и очнулась только через пять минут. А когда пришла в себя, достала из сундука, кишевшего молью, черное платье, которое хранила еще со смерти отца, облачилась в него и быстрым шагом направилась к дому священника.
— Боже мой, какое несчастье, дон Хосе, — сказала она, входя.
— Успокойся, дочь моя.
Перечница села в плетеное кресло возле стола священника и взглядом спросила дона Хосе, известно ли ему, что произошло.
— Да, и знаю; Куко мне все рассказал, — ответил священник.
Она глубоко вздохнула с таким шумом, как будто у нее ребра застучали друг о друга. Потом отерла слезу, круглую и крупную, как капля дождя.
— Выслушайте меня внимательно, дон Хосе, — сказала она. — Я в ужасном сомнении. В сомнении, которое гложет меня. Ирена, моя сестра, теперь проститутка, не так ли?
Священник слегка покраснел.
— Замолчи, дочь моя. Не говори глупостей.
Закрыв молитвенник, который он читал перед приходом Перечницы, дон Хосе прочистил горло, но, когда заговорил, голос его тем не менее зазвучал как-то сдавленно.
— Слушай, — сказал он, — женщина, которая отдается мужчине по любви, не проститутка. Проститутка — это женщина, беззаконно торгующая своим телом и красотой, которую ей дал бог, женщина, отдающаяся любому мужчине за плату. Понимаешь разницу?
Перечница выпрямилась и с неумолимым видом произнесла:
— Во всяком случае, отец мой, Ирена совершила тягчайший, омерзительный грех, разве не верно?
— Верно, дочь моя, — ответил священник, — но грех поправимый. Мне кажется, я знаю дона Димаса, и по-моему, он не плохой юноша. Они поженятся.
Перечница-старшая закрыла лицо костлявыми руками и, всхлипнув, сказала:
— Отец мой, отец мой, но у этого дела есть еще и другая сторона. Сестра пала из-за пылкой крови. Это ее кровь согрешила. А у меня та же кровь, что у нее. Значит, я могла бы сделать то же самое. Я каюсь в этом, отец мой. Каюсь от всей души и горько скорблю.
Священник дон Хосе, настоящий святой, встал и двумя пальцами коснулся ее головы.
— Ступай, дочь моя. Ступай домой и успокойся. Ты ни в чем не виновата. И с Иреной мы уладим дело.
Лола, Перечница-старшая, покинула дом священника до некоторой степени утешенная. По дороге она тысячу раз повторила себе, что обязана сделать владевшие ею чувства — скорбь и стыд — достоянием гласности; ведь потерять честь всегда было бóльшим несчастьем, чем потерять жизнь. Под влиянием этой идеи она, придя домой, достала коробку из-под ботинок, вырезала из нее картонку и, взяв кисточку, нервными каракулями написала на ней: «Закрыто по случаю позора». Потом вышла на улицу и прикрепила картонку к двери лавки.
Как рассказывали Даниэлю-Совенку, лавка была закрыта десять дней и десять ночей.
Но теперь-то уж Даниэль-Совенок знал, что значит забеременеть и что такое аборт. В определенном возрасте такие вещи становятся простыми и понятными. А до этого они кажутся чем-то колдовским. Раздвоение женщины не вмещается в человеческую голову, пока не обращаешь внимания на округлившийся живот, который выдает его со всей очевидностью. Но до того возраста, когда принимают первое причастие, над такими вещами почти никогда не задумываются, хотя они бросаются в глаза и позже подавляют нас своей простотой.
Но и Герман-Паршивый, сын сапожника, тоже знал, что значит забеременеть и что такое аборт. Герман-Паршивый всегда, при всех обстоятельствах, даже самых трудных, был хорошим товарищем. Он не так сдружился с Даниэлем-Совенком, как, например, Навозник, но причина тому была не в нем, не в Даниэле-Совенке, и не в таких вещах и явлениях, которые зависят от нашей воли.
Герман-Паршивый был худенький, бледный, хилый мальчонка. Не будь у него такие черные волосы, может быть, не так бросались бы в глаза его проплешины: у Германа на голове с самого раннего возраста были проплешины, и наверняка поэтому его и прозвали Паршивым, хотя, надо полагать, проплешины образовались не из-за парши в собственном смысле слова.
У его отца, сапожника, помимо маленькой мастерской, находившейся по левую руку от шоссе, если идти в гору, за особняком дона Антонино, маркиза, было десять детей, из которых шестеро родилось, как положено, поодиночке, а остальные четверо — попарно. Оно и понятно, его жена была двояшка, и мать жены двояшка, а у него самого в Каталонии была сестра, тоже двояшка, которая родила тройню — об этом даже писали в газетах, и губернатор дал ей единовременное пособие. Все это, без сомнения, о чем-то говорило. Но никто не мог разубедить сапожника в том, что подобные явления вызываются каким-то микробом, «как и любая другая болезнь».
Андрес, сапожник, если посмотреть на него спереди, еще мог сойти за отца многочисленной семьи; но если смотреть сбоку — никогда. Недаром в селении о нем говорили: «Андрес — человек, которого сбоку не видно». И это надо было понимать почти буквально — такой он был тощий, испитой. А кроме того, ему был свойствен весьма приметный наклон корпуса вперед, кто говорил — вследствие характера его работы, а кто — из-за пристрастия любоваться до последней возможности икрами девушек, которые оказывались в его поле зрения. Учитывая эту его склонность, было легче понять, даже глядя на него сбоку, что он отец десяти детей. И словно ему мало было такого потомства, его крохотная мастерская всегда была полна клеток с зеленушками, канарейками и щеглами, которые весной поднимали гомон и писк, еще более оглушительный, чем стрекот цикад. Захваченный тайной оплодотворения, сапожник производил над этими птичками всевозможные эксперименты. Он скрещивал канареек с зеленушками и щеглов с канарейками, чтобы посмотреть, что получится, и утверждал, что гибриды будто бы поют нежнее и мелодичнее, чем чистокровные экземпляры.
Вдобавок ко всему, сапожник Андрес был философом. Если ему говорили: «Андрес, неужели тебе мало десяти детей, зачем ты еще птиц разводишь?», он отвечал: «Благодаря птицам я не слышу, как орут дети».
С другой стороны, большинство детей уже выросли и могли сами постоять за себя. Самые трудные годы миновали. Правда, когда пришло время призываться первой паре близнецов, у Андреса произошел горячий спор с секретарем муниципалитета, потому что сапожник уверял, что они разных годов призыва.
— Но послушай, приятель, — сказал секретарь, — как они могут быть разных годов призыва, раз они близнецы?
Сапожник Андрес уставился на округлые икры девушки, которая пришла объяснить, что ее брат не явился по уважительной причине. Потом втянул голову в плечи подобно тому, как улитка прячется в свою раковину, и ответил:
— Очень просто. Андрес родился за десять минут до полуночи в день святого Сильвестра, а когда родился Мариано, был уже новый год.
Тем не менее, поскольку оба парня были записаны в метрическую книгу 31 декабря, «человеку, которого сбоку не видно», пришлось примириться с тем, что их забрали в армию одновременно. Его третий сын, Томас, хорошо устроился в городе — работал в автобусном парке. Четвертый сын, Биско, сапожничал, помогал отцу. Остальные были девочки, за исключением, разумеется, Германа-Паршивого, самого меньшего.