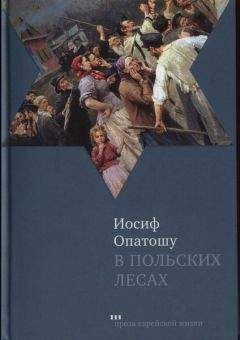Сели, сели серы гуси,
Серы гуси на Дунай,
Не хотела идти замуж,
Так сиди теперь, вздыхай!
Ох, давно, давно уже жители Сухой Долины подозревали Петрусю, внучку слепой Аксены, в ведовстве и в том, что имела она такую силу, какой не могло у нее быть, если б не зналась она с нечистым. Правда, подозрения были смутные и вслух не высказывались, но лишь потому, что среди бесчисленных повседневных трудов и забот никто ими особенно не интересовался, да и не было ни у кого явных доказательств зла, причиненного кому-либо Петрусей. Тем не менее подозрения эти, хотя и глухие и еще смутные, существовали. Да и можно ли этому удивляться, если многие обстоятельства жизни Петруси, как и многие ее поступки и черты характера, были необычными, то есть не совсем такими, как у остальных жительниц Сухой Долины. Например, остальные родились здесь же, в деревне, на глазах у всех, и все помнили их крестины и знали их сызмальства; затем, выйдя замуж, они не жили на отшибе, среди поля, а селились рядком, хата к хате, так что из одной отлично слышно было и видно все, что происходило и случалось в другой, и, хоть жизнь у них протекала по-разному: в ладу и согласии или в сварах, в бедности или в достатке, в работе или в праздности — это уж кому как бог даст и какой у кого нрав, но так, как Петруся, жена Михала, ни одна не выходила замуж и не жила. И ни одна не знала столько всяких премудростей, как она. А она откуда могла их знать? Разве что от слепой своей бабки Аксены, которая много лет тому назад прибрела сюда с маленькой внучкой; тогда она еще не была слепой, но, как милости, просила у людей работы и нанималась в услужение то к каким-нибудь богатым хозяевам в Сухой Долине, то в одну из усадеб по соседству. Так она и жила, растила свою Петрусю и как будто только и ждала, когда та вырастет, чтобы ослепнуть, а случилось это — старуха не охала, не стонала, ощупью залезла на печь, взяла в руки веретено с куделью и сказала внучке:
— Ну, теперь ты большая и, слава богу, силы у тебя хватает. Можешь работать и меня кормить до конца моих дней, как я кормила тебя с малолетства, когда отец твой и мать померли в один год. А на одежку я и сама себе заработаю. Прясть-то я смогу и на память.
Уже тогда бабка была очень старая и сухонькая, лицо ее казалось выточенным из пожелтевшей кости, а глаза застилала белая пелена. У нее были длинный и острый нос, изборожденный тысячью мелких морщинок лоб и бесцветные, до того высохшие губы, что они едва выделялись на лице. Одежду она носила скудную, и можно было поверить, что на нее-то она заработает, хотя и по памяти прядет. Домотканная синяя юбка, передник, сурового полотна рубашка и черный бумажный чепец, так туго и гладко обтягивавший голову, что из-под него виднелась лишь узкая прядка белых, как молоко, волос. Словно в подтверждение своих слов, сидевшая на печи старуха протянула одну руку к кудели, а другую — с веретеном — держа перед собой, принялась прясть. Она совсем ничего не видела, не могла даже отличить день от ночи, однако из-под пальцев ее вилась длинная нитка, такая ровная и тонкая, какую нелегко спрясть и с самыми зоркими глазами. Время от времени она слюнявила пальцы и снова тянула длинную, ровную, тонкую нить; в ее желтой, словно выточенной из кости, руке веретено крутилось и жужжало; едва заметная улыбка обрисовывала высохшие губы, а застланные пеленой глаза, казалось, смотрели в лицо внучки и говорили: «Ну что? Видишь? Я хоть и слепая, а еще не вовсе никудышная. Ты только меня корми, а на одежку я сама себе заработаю».
Петруся, и то время семнадцатилетняя девушка, здоровая и румяная, хотя еще тонкая и стройная, как молодой тополь, сидела на краю печи с полными слез глазами, готовая вот-вот разрыдаться, оплакивая ослепшую бабку; однако, видя, что бабка не плачет, а улыбается и веретено ее жужжит да жужжит, она нагнулась и, прильнув губами к ее коленям и босым ногам, только сказала:
— Ладно, бабуля, буду и кормить тебя и беречь, словно зеницу ока, как и ты кормила меня и берегла с малолетства, когда у меня отец и мать померли в один год. Вот, как бог свят, буду!
При этих словах она ударила себя кулаком в грудь и всплакнула, но совсем немножко, потому что и сама не была плаксива, да и бабка, погладив ее по голове, сразу сказала:
— Ну, а теперь иди на работу. Некогда нам с тобой попусту языком молоть. Петровой-то жене нынче опять неможется, сама-то она и коров не подоит и свиней не покормит. Ступай, подоишь коров да покормишь свиней.
Петруся отправилась и, как проворный дух усердия, засуетилась по хозяйству. То было хозяйство Петра Дзюрдзи; жена его тогда уже несколько лет прихварывала, а то и болела, дочерей у них не было, сыновьям-подросткам жениться еще не пришло время, и в доме за еду и одежонку сперва хозяйничала Аксена, а теперь Петруся. Дзюрдзя был богатый крестьянин, и у него хватало достатка на работницу, которая могла бы заменить в хозяйстве его больную жену. Впрочем, это был для него единственный и неплохой выход. Как раньше Аксена, так теперь Петруся делала все, что нужно, с рвением, присущим беднякам, у которых нет ничего на свете и которым приходится не покладая рук работать на тех, кто богаче их, — вот они обе и старались изо всех сил. В доме Петра полно было не только женской работы, которая сберегает и приумножает всякое богатство, в ней было и то, без чего можно обойтись, но что разнообразит и скрашивает жизнь. Обе женщины — одна очень старая и слепая, другая молоденькая, живая и стройная — наполняли дом сказками и песнями. Аксена знала множество сказок, а Петруся множество песен. Среди них были и местные песни и сказки и принесенные Аксеной с дальней стороны, откуда она много лет назад прибрела сюда. Бродила она, бродила в поисках работы и пристанища, пока не добралась сюда, не прижилась здесь вместе с ребенком, и все, что у нее было, отдавала жителям Сухой Долины. Зимними вечерами она рассказывала собранные в разных местах сказки, а песен сама уже никогда не пела, но научила петь свою внучку, для которой, казалось, родной стихией были движение, смех и песня. Откуда у сиротки, убогой странницы, была эта живость, это светлое, как родниковая вода, бьющее ключом веселье? Трудно сказать. Должно быть, такой создала ее природа, но много значило и то, что, хотя порой Петруся и знавала голод и нужду, дурного обращения она не испытывала никогда. От этого оберегала ее бабка: Аксена из сил выбивалась, угождая людям, лишь бы никто не обидел ее внучку, сама же наглядеться на нее не могла, как в темную ночь путник не может наглядеться на единственную звезду, озаряющую его одинокий тернистый путь. Аксена на своем тернистом пути потеряла всех: дочь, скончавшуюся вскоре после рождения Петруси; зятя, унесенного моровым поветрием; мужа, умершего в больнице с раздробленной колесом молотилки рукой; сына, который ушел с войском на край света и не вернулся — то ли измошенничался там и сгнил где-нибудь в тюрьме, то ли убили его на войне... Кроме всех своих близких, Аксена лишилась еще одного — своего угла: родная ее деревушка стояла на скудной песчаной земле, вдалеке от лугов и пастбищ, и была так бедна, что не могла даже дать ей кусок хлеба, когда она стала в нем нуждаться. Не по своей воле, а по необходимости ушла она в люди. Так кто же, зная обо всех ее горестях, мог упрекать ее или удивляться тому, что внучка была для нее той единственной звездой, которая озаряет скитальцу его темный и тернистый путь. Оттого она никогда не била и не бранила девочку. Правда, она скупилась на ласки и очень редко целовала Петрусю; но у нее попросту не хватало времени, да и слишком она уставала, несмотря на тугие мышцы и крепкие нервы, и потому не ощущала в этом потребности. Однако ни разу в жизни она не проглотила ложки похлебки, не накормив сперва внучку; тряпки себе не справила, не обрядив Петрусю в чистое и крепкое платье; на ночь она клала ее с собой на печь и бережно укрывала суконным одеялом; в воскресные и праздничные дни учила ее петь и рассказывала о прежних временах и людях, о дальней родной стороне, о чертях, упырях и разбойниках или об ангелах, которые охраняют сирот, распростирая над ними свои серебристые крылья. Петруся всегда ощущала распростертое над ней крыло ангела и нередко в разговоре с подружками начинала:
— Она — словно ангел надо мной...
Но никогда не договаривала. Должно быть, ей не хватало слов или она стыдилась так смело высказывать свои сокровенные мысли. Потупив длинные ресницы, закрывавшие ее серые глаза, она смолкала и принималась теребить кончик своего передника. Но смущение, как и всякое грустное или неприятное чувство, у нее быстро проходило. Ни грусти, ни молчания, ни неподвижности она долго не выдерживала. Ходила Петруся вприпрыжку, казалось — вот-вот она пустится в пляс, за работой всегда напевала, а болтала даже за едой, смехом перемежая болтовню. Такая уж у нее была натура. Когда бабка ослепла, Петруся приумолкла и немного присмирела, но и это прошло через несколько дней. Аксена совсем не жаловалась, напротив, сидя на печи, она целыми днями и долгими вечерами преспокойно пряла; когда приходилось, разговаривала с людьми, то давала кому-нибудь советы, то что-нибудь рассказывала, как будто с ней не произошло ничего особенного. Петруся носила ей на печку еду, дула на горячую похлебку, разминала ей ложкой картофель и вылавливала для нее шкварки из саламаты или каши. Сунув слепой ложку и хлеб в блуждающие по воздуху руки, протянутые за едой, Петруся уговаривала: