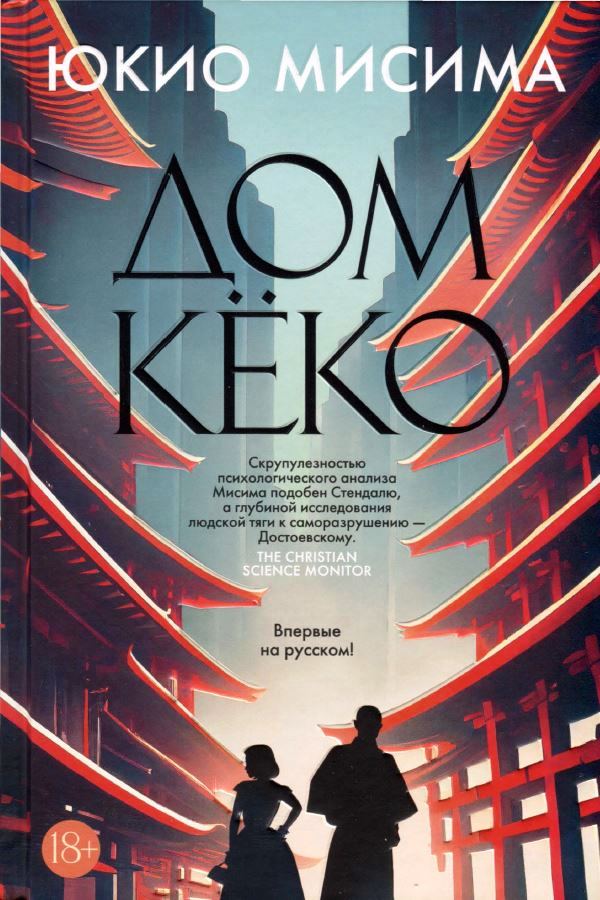нужно жить. Ты мечтала о крахе мира прошлого, я же предвижу крах будущего. Между двумя этими крушениями потихоньку выживает настоящее. Его способ жизни подлый и дерзкий, до ужаса безразличный. Мы опутаны иллюзиями, что это будет длиться вечно и мы будем жить вечно. Иллюзии постепенно расползаются, парализуют толпы людей. Сейчас не только исчезла граница между грёзами и реальностью, все считают, что эти иллюзии и есть реальность.
— Только ты знаешь, что это иллюзии, а потому спокойно их проглотишь, ведь так?
— Да. Ведь я знаю, что подлинная реальность — это «Мир накануне гибели».
— Откуда ты это знаешь?
— Я вижу. Любой, присмотревшись, увидел бы причину своих действий. Однако никто и не стремится вглядываться. У меня есть мужество всматриваться, своими глазами я, как на ладони, увидел это раньше других. Так же ясно, как часовую стрелку на башенных часах.
Сэйитиро всё больше пьянел. По красному лицу, неловким движениям становилось понятно, что он уже не отвечает за свои мысли. Этот юноша в приличном тёмно-синем пиджаке, скромном галстуке и неброских носках никогда особо не стремился смешаться с толпой, и даже около грязноватых манжет его рубашки витал запах самой обычной, заурядной жизни. Складывалось впечатление, что грязь осела не естественным путём, а он нанёс её на рукава собственным тяжким трудом. Тая и разлагаясь, будто выброшенная на песчаный берег медуза, в доме Кёко он, казалось, отверг любой выбор: углублявшиеся противоречия, идеи, чувства, одежда — всё представляло собой не более чем разношёрстную смесь.
Внезапно Сэйитиро сменил тему:
— Как Сюн перед тренировкой?
— Похоже, прекрасно. Уходил в хорошем настроении.
Кёко рассказала о сегодняшней послеобеденной драке.
Сэйитиро вдоволь посмеялся. Сам он не ввязывался в драки, но любил рассказы о чужих стычках. Похвалил Кёко за храбрость и что она не растерялась.
Сэйитиро глубоко втянул ночной воздух, широко зевнул. Задвигался ярко освещённый острый кадык. Резко, будто желая сменить позу, он встал, подошёл к Кёко, пожал ей руку.
— Спокойной ночи. Пойду. Ты, наверное, устала после поездки.
— Так чего ж ты приходил? — спросила Кёко, не вставая со стула. Она не смотрела на Сэйитиро, а разглядывала острые кончики ярко-красных ногтей, которые в ночи казались ещё острее.
— Зачем приходил, спрашиваешь?
Помахивая портфелем с документами, он прошёлся несколько раз перед дверью, словно любуясь тем, как движется тень по дубовым створкам, затем изрёк:
— Что-то голова болит. Да… Должно быть, хотел дать тебе совет или услышать твоё мнение.
— По какому поводу?
Я скоро женюсь.
Кёко ничего на это не сказала и вышла в прихожую проводить Сэйитиро. Усилившийся к ночи ветер крутился, ударяясь о каменную ограду и стены, которые с трёх сторон окружали двор. Там, куда доставал свет из прихожей, было видно, как ветер раскачивает красные глянцевые плоды и сочные бледно-зелёные листья аукубы. Шарики плодов висели гроздьями.
Ужасный ветер, — на прощание произнесла Кёко. Сэйитиро обернулся, во взгляде его мелькнуло подозрение. Ведь он знал, что Кёко не станет во время сильного ветра пояснять: «Ужасный ветер». Она же решила, что именно подозрительный взгляд в этот момент был наивысшим проявлением его бесцеремонности. Однако у Кёко не было причин его ненавидеть.
*
Масако, которая по-европейски спала в комнате одна, проснулась, когда удалился Сэйитиро. Взглянула на часы, подумала: «Сегодня последний гость ушёл довольно рано». Она встала, стараясь не шуметь, выдвинула ящик комода с игрушками. У неё это здорово получалось — беззвучно выдвинуть ящик.
От кукольной одежды, которой он был заполнен, повеяло камфарой. Масако нравились обёрнутые в цветной целлофан камфарные шарики, в ящике их было много. Оставаясь одна, она любила сунуть нос в ящик и полной грудью вдохнуть стойкий, без примесей запах.
Кукольные платья в слабом свете уличного фонаря, проникавшем сквозь стекло, казались светло-голубыми и нежно-персиковыми. Грубое дешёвое кружево волнами окаймляло подол. Масако временами раздражала эта вечно чистая одежда.
Оглядевшись, она прикусила высунутый язык и потянула из-под кукольных нарядов снимок. Бросилась к окну и при неясном свете вперила взгляд в фотографию отца, которого выставили из дома. На фотографии был вялый, тщедушный, но изящный молодой мужчина в очках без оправы, с волосами на прямой пробор, из-под воротника выглядывал небольшой узел неровно завязанного галстука.
Масако без сентиментальности, словно отыскивая человека по фотографии, пристально рассматривала снимок. И, как вошло у неё в привычку при пробуждении ночью, тихо прошептала:
— Подожди. Я когда-нибудь обязательно позову тебя назад.
От фотографии пахло камфарой. Так для Масако пахли и глубокая ночь, и тайна, и отец. Надышавшись этими ароматами, она хорошо спала. Здесь уже исчез запах псины, который так ненавидела Кёко.
— Инукаи понесло, — заметил Саэки, сослуживец, вместе с которым Сэйитиро вышел пройтись в обеденный перерыв.
Они направлялись к Нидзюбаси, [7] собирались пойти в парк.
— Судя по фамилии, он домашняя собака, — продолжил Саэки.
Сэйитиро кивнул:
— Не понял он мужчин. Упустил единственный в жизни шанс возвысить мужчину.
Премьер Ёсида был из тех, кто предпочитал привычный уклад и терпеть не мог реформы. И не только Ёсида: хватало и других старорежимных, забавлявших людей упрямцев. Однако министр юстиции Инукаи Такэру [8] повёл себя оригинально. Он стал первым, кто независимо от личных идей и пристрастий в лицах грубо разыграл перед публикой, какой вклад должен внести в существующий порядок. Всё было нарочито комично и утрированно. Цилиндр, который надевает шут, заставляет сомневаться в достоинстве цилиндра как символа — так и это неожиданно развенчало величие режима. Обозлило народ, и возмущение стало повсеместным.
Вчера утренние выпуски газет объявили, что министр юстиции Инукаи воспользовался особыми полномочиями, вечерние выпуски опубликовали его заявление об отставке. В глазах общества это выглядело непоследовательно. Если ты намерен объявить, что уходишь в отставку, то не должен использовать своё особое право, а уж если использовал, то не говори об отставке. Инукаи хотел угодить и премьеру, и массам, что, естественно, вызвало противоречия. То была карикатура, злившая людей.
Все возмущались. Гнев обуял все сословия, распространился беспрецедентно, но стоит добавить, что сделался и самым безопасным. Этому Сэйитиро сочувствовал. Он тоже был обязан возмущаться, и возмущаться было естественнее.
— Он прямо как визгливая женщина. Как ты думаешь? — снова заговорил Саэки.
— Безумно возмущает, — отозвался Сэйитиро. Он всегда держал себя в руках, чтобы в его взглядах, не дай бог, не пробился ревизионизм, каким его представляли в бесконечно консервативных отсталых газетах.
Был довольно тёплый, чуть сумрачный разгар дня. Толпы служащих — мужчины и женщины — совершали послеобеденный моцион. Сэйитиро и Саэки остановились у крепостного